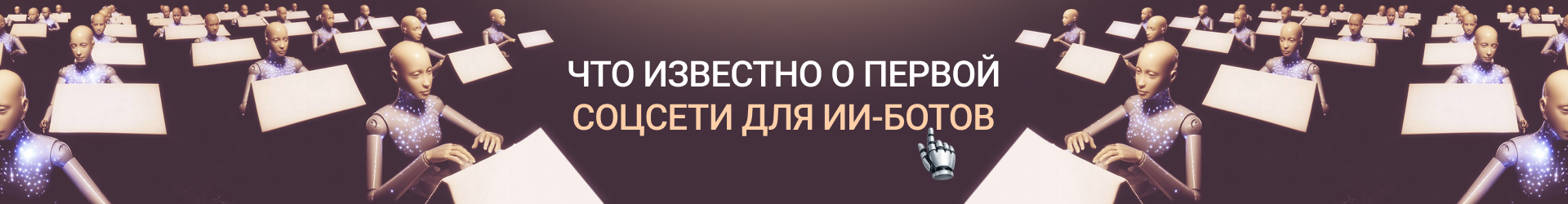«Сказка — универсальный способ поговорить на болезненные темы»: писательницы Ася Демишкевич, Татьяна Мастрюкова и Саша Степанова — о сказках и мифах современности
От «Гадкой сестры» до «Цирцеи» Мадлен Миллер — тенденция на переложение старых сказок на новый лад за последние несколько лет стала повсеместной и даже привычной. И это еще — к лучшему! — мы не вспоминаем бесконечные российские киноремейки сказок. В литературе, однако, работа с мифами и сказками нужна не просто для массовости и узнаваемости, а для глубины подтекстов даже в самых простых сюжетах. И не важно, в каких жанрах работает автор.
Поговорили с тремя современными писательницами о центральном мифе современности, переходных периодах истории и об их чудесах, Бабах-ягах, Василисах и обо всем вытекающем. Писатель и литературный обозреватель Денис Лукьянов поговорил с Сашей Степановой («Колдун с Неглинки», «Двоедушник» и др.), Асей Демишкевич («Раз мальчишка, два мальчишка», «Там мое королевство» и др.) и Татьяной Мастрюковой («Болотница», «Нежили-небыли» и др.)
Мифология и фольклор последние несколько лет в тренде: о них читают нон-фикшен, записывают подкасты, их переосмысляют в дизайне одежды, украшений. Откуда такая волна интереса?
Саша Степанова: Миф, фольклор — это прежде всего мир, упорядоченный определенным образом. Когда реальность усложняется, а этическое игл, системы координат становятся размытыми, мы истинктивно возвращаемся к первоосновам. Там понятно: добро и зло не перепутаны, слова обладают силой, а в сложные минуты на помощь приходят чудеса. Однако было бы неправильно присваивать подобное возвращение интереса к фольклорной эстетике, потому что оно, конечно, циклично и в каждый из периодов связано с поиском идентичности: В. Васнецов, И. Билибин и «Русские сезоны» Дягилева, Н. Рерих и авангардисты, кукольный театр Сергея Образцова — культурные коды, повлиявшие в том числе на нас. История продолжается.

Ася Демишкевич: Последние несколько лет точно не первый всплеск популярности фольклора. Мне нравится отслеживать этот тренд социологически — например, по именам, которые дают детям при рождении в разные отрезки времени. В России речь, конечно, пойдет о славянском фольклоре. Всплеск славянских или считающихся таковыми имен был в 1990-е: Святослав, Ярослав, Богдан, Борислав, Мечеслав, Злата, Мирослава, Веста и т. д.
Также интерес к славянским именам можно увидеть сейчас.
Почему так происходит, что общего у 1990-х и настоящего времени? Можно сказать, что это сложный переходный период, а в такие периоды интерес к фольклору всегда актуализируется.
Татьяна Мастрюкова: Каждый из нас — уникальная личность, но при этом каждый из нас — представитель своей национальной культуры, всей истории не только своей семьи, но и страны, носитель культурного кода. Осознание себя как части своей культуры не только обогащает духовный мир, но и позволяет лучше понять себя. И чем больше изучаешь свои мифологию и фольклор, тем шире раскрываются невероятные богатые культурные пласты — и ты вдруг понимаешь, какими восхитительными уникальными знаниями обладаешь просто потому, что ты представитель этого народа. Это очень вдохновляет. Попытка искусственно создать как бы «общую», «одинаковую» для всего человечества культуру была любопытной, но провалилась, чему лично я рада, потому что это ущербная и, по моему мнению, вредная теория. Принадлежать к какой-то культуре и транслировать ее лучшие образцы — это не уход в прошлое, не дремучесть, а фундамент, на котором строятся уникальность и творчество. Мы достойны уважения, мы интересны, в нас заложен невероятный потенциал благодаря нашим предкам. Может, это все звучит немного пафосно, но это на самом деле именно так.

Что вам, как автору, дает работа с мифом и сказкой? И как бы вы характеризовали для себя миф, сказку?
Саша Степанова: С одной стороны, сказочный символ — нечто, что не нуждается в объяснении. Темный лес, перепутье, река и мост через нее, веретено и колодец настолько наполнены смыслом сами по себе, что мгновенно вызывают эмоцию. С другой — в нашей реальности эти же символы приобретают дополнительную глубину, с которой можно работать. Тот же лес — место, где герой встречается с испытаниями, — метафорически представляет собой и город, и онлайн-среду, и внутренние поиски человека. Иными словами, миф позволяет напрямую обращаться к частному опыту, дополняя его общим.
Ася Демишкевич: Сказка — отличный скелет для текста, даже если он совсем несказочный. Так происходит потому, что большая часть сказок структурно повторяет обряд перехода: разрыв с прежним статусом/жизнью; уход в лиминальное пространство; испытания; возвращение в новом статусе, то есть изменившимся. Здесь мы видим типичный путь героя, о котором потом напишут в учебниках, но сказка показала нам его гораздо раньше.
Для меня сказка — самый универсальный способ поговорить на болезненные темы.
Татьяна Мастрюкова: Мифология и фольклор — это накопленные конкретным народом знания о мире и объяснение мироустройства понятными для большинства понятиями. И, обращаясь к ним, мы лучше понимаем себя современных: почему мы поступаем именно так, а не иначе, что нами движет, что нам придает силу. Мы учимся даже на самых, казалось бы, наивных сказках и не пропадем поодиночке.
Почему современная Россия идеально подходит для «вкрапления» в сюжеты ваших книг мифологических и сказочных элементов?
Саша Степанова: Двоемирие — я постоянно его наблюдаю, где бы ни находилась. И каждый раз думаю, что магический реализм, должно быть, единственный способ адекватно описать увиденное. Достаточно даже не очень основательно попутешествовать, чтобы почувствовать, как сам ландшафт стремится стать действующим лицом истории, потому что сказка здесь не закончилась. Она вокруг.

Ася Демишкевич: Сказки, мифы, эзотерика, игры в магию — все эти вещи актуализируются, когда человек теряет опору и контроль над своей жизнью, когда сильно обостряется неопределенность вообще во всем. Антрополог Бронислав Малиновский в книге «Магия, наука, религия» рассматривает функции, которые выполняют в жизни общества три названные составляющие, и вот что он пишет о магии: «…Магия помогает справиться с непредсказуемыми ситуациями, в которых наука бессильна…» То же самое верно и для сказки: она помогает справляться с неопределенностью в поле мысленного и эмоционального. Она подсвечивает болевые точки, существующие в обществе, причем делает это таким уходящим на много веков назад светом.
Татьяна Мастрюкова: Органичное сочетание христианства и язычества, советских атеистических взглядов и традиционных суеверий, тесно переплетенное в нашей культуре и уживающееся в современном человеке, настолько естественно, что мы даже не замечаем противоречий, когда атеист плюет через левое плечо или восклицает: «Слава богу, все получилось!», позволяет магическому реализму легко прикидываться чуть ли не документальной прозой.
Откуда в современной литературе так много героинь, похожих на архетипических персонажей из мифов и сказок, — ведьм, сирен, богинь? Мы переосмысляем женский образ и обращаемся к архетипам?
Саша Степанова: Да, это древние мощные образы, с помощью которых мы описываем новую социальную реальность. Где ведьма — не уродливая и злая сила, а мудрая, могущественная и независимая женщина, а сирена — не соблазнительница, но та, чей голос невозможно не услышать. Могла ли Золушка не терпеть унижения? Что случилось с Ариадной после того, как она помогла Тесею? Возможно, однажды Баба-яга сама стала жертвой?.. Героини больше не фон и не награда для героя — они живые, действующие и очень самостоятельные.
Ася Демишкевич: Не могу принять на веру этот тезис. Возможно, я что-то не то читаю, но мне такие мощные архетипические героини практически не встречаются. Думаю, они прекрасно себя чувствуют в жанровых произведениях, и это еще один повод как следует к этим произведениям присмотреться.
При этом я слышу много сильных, интересных голосов автогероинь в текстах писательниц, но они не укладываются в образ такой «героической героини».

Татьяна Мастрюкова: Самое интересное, что в новых историях «переосмысляемые» героини мифов и сказок, по сути, практически не меняются, просто их роль акцентируется, подсвечивается гораздо ярче. Та же Василиса Премудрая/Прекрасная (они не очень-то и отличаются, обе умные и красивые), которая умела колдовать, владела сакральными знаниями, могла решить проблему героя без особых для себя усилий, спасала в момент опасности — правда, тоже только одного героя и себя. Это просто принималось как данность. Вообще-то, Василиса — ведьма, часто прямым текстом названная близкой родственницей Бабы-яги, которая мертвец-сторож между мирами. И при этом самый что ни на есть положительный персонаж. Разве для нас это новость? Мы просто не задумывались, а теперь задумались.
Старые истории, в том числе сказочные и мифологические, сейчас активно переосмысливаются в проектах, например, Disney, и даже на российских больших экранах. Где, на ваш взгляд, проходит грань между переосмыслением и эксплуатацией мифа?
Саша Степанова: Грань проходит там, где из сказки выхолащивается изначальный смысл, а на его место помещается суррогат, призванный продать эту сказку современному читателю или зрителю. Тогда вместо диалога со сказкой мы получаем некий продукт, ничего общего с ней не имеющий.
Ася Демишкевич: Здорово, когда миф или сказка просвечивают сквозь произведение, угадываются, но не повторяют уже знакомый нам сюжет и способ его развернуть. Угадываются структурно или атмосферно, но не пересказывают, даже если это пересказ на новый лад. Вот в этом свечении или его отсутствии для меня и проходит грань. Это если говорить о литературе, в кино для меня все немного иначе: здесь мы имеем дело уже с переводом с одного языка на другой. Сказка возникла и долгое время существовала как устный жанр, и перевод с устного языка на визуальный — это уже само по себе более интересная и перспективная история.
Татьяна Мастрюкова: Я вообще за использование сказок и мифов, но резко против, когда меняется сам посыл истории. В традиционных дошедших до нас историях нет серой морали, нет перевертышей «злодей на самом деле добряк, обиженный добряком, который на самом деле настоящий злодей». Причем это не новейшее изобретение, а продолжение начатой еще в XIX веке чудесной кампании обеления нечисти, благодаря которой мы просто забываем, что все эти «привлекательные» персонажи либо мертвецы, либо обязаны расплачиваться за свой дар жизнью и здоровьем других людей. Сказки с серой моралью имеют все права на существование, но для этих тропов, на мой взгляд, лучше сочинять что-то новое, соответствующее нашему времени. А вот откуда появилось стремление идентифицировать себя с отрицательным персонажем, как с более привлекательным, — это интересный вопрос.

Что лучше: добрая или страшная сказка?
Саша Степанова: Позволю себе не выбирать — и то, и другое необходимо в разные периоды жизни. Со страшной сказкой мы растем, проходим испытания и ищем в себе свет, с доброй — согреваемся и получаем такое нужное утешение… Как тут выбрать?
Ася Демишкевич: Сказка не появилась как добрая или страшная. Она возникла как поучительная и проговаривающая проблемы, существовавшие в обществе, где она бытовала. Первые сказки можно назвать скорее жуткими, потому что научить чему-то и предостеречь от чего-то эффективнее всего, напугав. Даже те сказки, которые мы привыкли считать детскими, при ближайшем рассмотрении оказываются довольно мрачными.
Литературно обработанные и авторские сказки, возникшие позднее, я почему-то уже не могу в полной мере воспринять как древнюю народную сказку, поэтому выбираю страшные.
Татьяна Мастрюкова: Всякая сказка рассказывается для чего-то: развлечь, обучить, объяснить, предостеречь, успокоить. Все они нужны и важны.
Какой, на ваш взгляд, центральный миф современности?
Саша Степанова: Миф о всемогуществе. О том, что мы управляем природой, временем, возрастом, другими людьми. И если классический миф помогал человеку осмыслить свое место в мире, то современный ставит человека в центр этого мира. Однако, как мы можем увидеть, никакие мифы не вечны — и на смену ему придет новый. Я надеюсь, что он будет о смирении.
Ася Демишкевич: Сложно ответить за все человечество, в разных культурах они будут как-то варьироваться. Но одним из самых мощных мифов мне видится этот.

Миф о бессмертии, речь идет не о бессмертии души, а именно о физическом бессмертии. Будешь правильно питаться, заниматься спортом, проводить разного рода процедуры — и будешь жить все дольше и дольше, а там уже и бессмертие совсем близко. На этот миф-стремление отлично ложатся всякие прокачки, улучшения себя, питание солнечной энергией, питье яблочного уксуса, переливания крови и т. д.
Сейчас говорю это и думаю: а вдруг и правда когда-нибудь сработает? (Смеется.)
Татьяна Мастрюкова: Не задумывалась над этим. Пожалуй, мне потребуется для обдумывания ответа очень много времени.