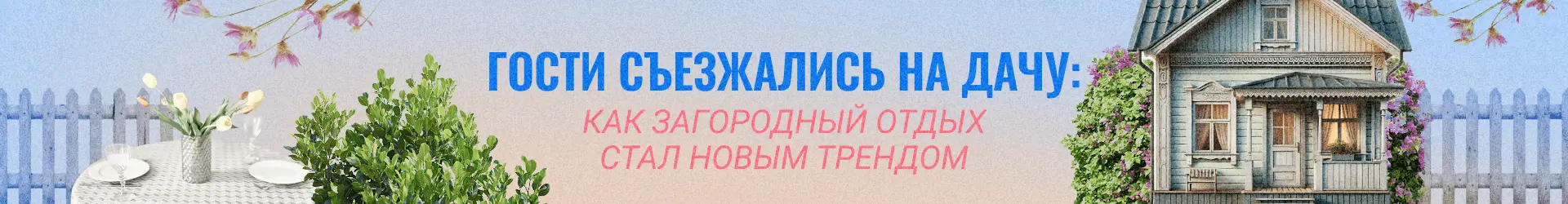Метафизика Венеции. Инструкции для гедонистов
В издательстве ОГИ вышла книга искусствоведа, магистра философии и давнего жителя города на воде Глеба Смирнова «Метафизика Венеции». Автор эксклюзивно для «Ножа» предоставил одну из глав, которую мы с удовольствием публикуем.

Театр одного актера
Инструкции для гедонистов
…Человек, склонный замечать во всем одни недостатки, найдет их без труда и в Венеции. Карнавал всё больше напоминает рио-де-жанейрский по безвкусице нарядов, масок и псевдодурацких колпаков. Казино уставлены слот-машинами. Ночной жизни нет. Негде присесть. Миазмы.
Сувениры вопиюще пошлы и сделаны к тому же в Тайване. Туристы, в полном соответствии с сувенирами, тоже. В спортивной обувке, мерзко квакающей о полированные старинные камни мостовых, вразвалку разгуливают по этим переулкам земного рая какие-то люди в пляжных трусах, кепи и со шрамом от аппендицита напоказ. Смотришь на это враждебное племя с любопытством — на их замешательство и их эйфорию. Они не оживляют собой город, не наполняют его, а только оттеняют собою архитектуру — хуже, загораживают ее. Степень их неуместности здесь такова, что ее иногда осознают они сами.
Какие-то вульгарные молодые люди в развязной манере зазывают вас в эти гондолы и там за бешеные деньги поют кое-как поставленным голосом «О соле мио», неаполитанскую народную песню. Кроме этого, негде послушать что-либо кроме «Времен года» Вивальди, сыгранного поточно-конвейерным способом, едва ли не под фонограмму.
Работать, говорят, можно только в туристическом секторе, а это не всегда способствует совестливости населения и не прибавляет им любви к городу. Город беззастенчиво вздутых цен — настолько, что не нужно и карманников. «Всюду ерихонцы: не сеют, но лишь жнут червонцы», — как говаривал Державин. Город, где патриции разучились закатывать праздники, а простой люд, и стар и млад, — закоренелые троцкисты, за спритцем доказывающие вам, что коммунизм — это шаг вперед в эволюции человечества.
Упрекнем город и в том, что он неудобен для матерей и глух к стонам новорожденных, коляски которых приходится тащить через мосты (а их 411). Город безразличен к подрастающим, ни зоопарка, ни цирка с Диснейлендом! Нет зелени (хотя это неправда: если бы мы были птицами, то увидели бы с высоты полета, что любой уважающий себя дворец имеет внутренний сад (где, кстати, должны бы расти асфодели…) или террасу на крыше. Мертвый город, слышишь иногда. К счастью, нет. А иногда думаешь, что к сожалению. Что самый большой недостаток Венеции в том, что она не исчезла вместе с XVIII веком. Не утопилась.

Один из главных недостатков Венеции — постоянные разговоры о ней. Не тавтологично ли говорить о Венеции — в ней самой? Еще как тавтологично. Здесь бы заводить иные речи. Которые, быть может, совсем неуместны в других городах и весях. Этот город создан для медитаций на очень определенные темы. Некоторые из них мы поднимем.
В венецианском воздухе разлита разнеженность. Сказано, быть может, поэтично, но вот причина: здесь физически нет шума, бьющего в уши, выхлопов, бьющих в нос, нет неоновой рекламы, бьющей в глаза, — нет всех тех насилий, которым в современных метрополиях подвергнуты наши органы чувств.
Мы все смирились и свыклись с нашей сенсорной зачуханностью, полагая, что это неизбежно. Да так ли это? Неизбежно ли город должен быть безжалостен к своим жителям?
Можно смело утверждать, что Венеция — самый гуманный город на земле (хотя насчет земли мы погорячились). Уже в силу того простого факта, что в городе без машин привыкаешь рассматривать улицы как продолжение своего дома, как центробежные коридоры, келейно отходящие во все стороны от домашнего очага. С нашествием машин, постигшим остальные города, стало невозможным расслабиться на улице. Венеция представляет своим насельникам пользоваться человеческим правом остановиться вот так прямо на тротуаре и, как свободный горожанин и независимый прохожий, разговориться со встречным-поперечным. И расслаблена спина.
Или просто притормозить посреди улицы, задумавшись (а не озираясь и держа спину в латентном напряжении, что не ровен час налетит сзади гонщик-лихач). Тебе предоставлена возможность бродить по стогнам Венеции в полной рассеянности, беря пример с классических философов вроде Фалеса. Позволить своим обитателям рассеянность — привилегия немногих городов. Единственное, пожалуй, о чем не стоит забывать, так это о том, что это город-остров, остальное неважно.
«Чем вы тут занимаетесь один в Венеции?» — иногда спрашивают меня, как будто в этом городе только и можно заниматься чем-то особенным. Что ж, по порядку.
По ночам мы проверяем, все ли палаццо на привязи, и вообще таким городам, как Венеция, нужен ночной сторож. В остальное время мы курим с красивым мундштуком, читаем Байрона дурными голосами, танцуем фокстрот.
Толкуем о том о сем. К нам приходят дамы показывать свои новые наряды. Регулярно мы ходим к Монтеверди в церковь Фрари со свежими розами. В общем, мы нечеловечески заняты.
А есть и еще уйма занятий.
С каждой вещью следует научиться играть. В данном случае мы хотим «играть в город». В Венецию, больше чем с другими городами, легко играть как в игру. Назовем ее «Потрафим-ка чувствилищам». Правило такое: попытаться доставить максимум наслаждения своим пяти органам чувств. Три из них в Венеции уже порядком ублажены (зрение, слух, обоняние), хотя необходимы известные навыки, чтобы они разжались окончательно.
Развитие всех пяти органов чувств — благодарнейшее занятие, и непонятно, почему современное человечество так мало этим озабочено. Для зрения у нас есть венецианская школа живописи и облачки дыма над трубкой, для обоняния — небольшая коллекция склянок духов, обожаемая кожа подруги, водоросли в каналах и морской воздух. Для осязания есть ткани и шершавые кирпичи, и, наконец, для слуха — море прекрасной музыки; ну и вкус, только расчехлить бы рецепторы.
Собственно, один из трех смыслов жизни, видит бог, — в развитии данных нам органов чувств и по возможности в приобретении новых органов, как, например, орган времени. Второй из мне известных смыслов жизни — общение с наиболее интересными особями из некогда живших, и с наиболее из живущих ныне.

Короче, от нас требуется стать гедонистами, если мы таковыми по недомыслию еще не являемся. Итак, что предпринять в Венеции гедонисту? Ясное дело, он не будет никуда бежать, бояться чего-то не успеть. Мудрый, гедонист начнет с деталей — приметит стаю солнечных зайчиков на исподнем моста, балки мореного дерева на потолке в просвечивающем насквозь доме, трещинки на старой картине (они называются красивым словом «кракелюры»), неровности готической архитектуры, как если б ее делали из пластилина, миловидные головки кариатид под карнизами. А овальные окна-иллюминаторы он поприветствует протяжным «о», как бы озвучивая их. Будет аплодировать хорошей архитектуре. Он вынет всё из карманов и будет злостно плутать и сознательно заблуждаться, ибо нет занятия приятней, чем заблудиться в Венеции. А дорогу заплутавший гедонист спрашивать будет только у симпатичных прохожих (глубоко симпатичным вполне прилично бывает и подмигнуть). Увидев переулок, он быстро свернет в него, ибо нужно скрываться! Он будет заметать следы.

Эпикуреец бесстрашно выберет нехоженые тропы. В худшем случае он выйдет к воде или упрется в тупик, вполне безопасный и нисколечко не экзистенциальный. Будет отыскивать наиболее безлюдные уголки — так, чтоб становилось не по себе от ирреальности пустого города на плаву. В пустынности урбанистических натюрмортов есть большой шарм.

Методом тыка набредаешь в самые заповедные и утробные уголки города-табакерки. Ибо их просто нет на карте, их скрывают — не один ты такой хитрый, по карте-то. Так что карту брать с собой бесполезно. Она только раздражает посторонних и сбивает поисковый энтузиазм. Это все равно, что перед неземной женщиной упереться в анатомический атлас. Тут бы не теребить карту, а положиться на удачу.
Венеция всегда делает подарки авантюристам — и только им преподносит себя в подлинной своей ипостаси. Это совсем не про «виды — лепота». Нет, другое (и не всякому желанное): она обостряет синдромы. Наиболее щемящий из которых — концентрированное ощущение Времени.
Тот, кто потерял чувство времени за его хронической нехваткой, ухватит его за хвостик, восстановит его во всей полноте и даже увидит его воочию: есть мнение, что вода в венецианских каналах имеет не только цвет, но и неторопливую субстанцию Времени.
Тебе предоставлена хорошая оказия подумать о судьбе, о том, почему «так все получилось» и надо ли иначе, о том, как причудливо тасуется колода, о необязательности твоего рождения, о закономерной случайности встреч… Венеция хороша для неуловимых, импрессионистических размышлений — как музыка Дебюсси, без темы, куда поведет — приятно побултыхаться в собственной мнемонической гуще, даже не пробуя разобраться.
Гедонист, совершив над собой усилие, принципиально откажется от использования фотоаппарата, как чего-то профанирующего, для маловеров, — но непременно захватит бинокль, и лучше театральный. Последний незаменим для разглядывания картин и прочих mirabilia и культивирования позиции привилегированного наблюдателя. В то время как при лорнировании эффект удесятеряется, от вечно фотографирующего нескромника Венеция таинственным образом ускользает, самоустраняется, не оставаясь запечатленной ни в душе, ни в девайсе. Венеция защищается от усердно щелкающих маниаков и разворачивается к ним спиной, но покровительствует тем, кто удерживается от собственнических притязаний «задержать мгновение». Венеция создана для душ меланхолических. К чему таким фотографировать? Не брать с собой фотоаппарата и даже телефона — значит дать фортуне шанс показать, на что она способна: чудеса в Венеции случаются только с теми, кто лишен возможности их задокументировать.
Фотографируя, мы только прибавляем вещам тривиальности. «А, Венеция, да был я там! Святого Марко видел, мост Менял или как его, на гондоле катался!» — катался, это допустим, а вот был… — по совести, нет, голубчик, вас там всё-таки не было.
Так можно смело возразить в большинстве случаев.
Венецию никто не знает. Не то чтобы в ней существовали оккультные подводные царства или что-либо было укрыто от нескромного взгляда и тщательно замаскировано. Зачем? Чтобы хорошо спрятать вещь, надо поставить ее на самое видное место. Фокусники знают это.

Несмотря на то, что все «достопримечательности» обозначены и стоят себе смирно на своих местах, увидеть их не всякому под силу. Тут надобно умение расколдовывать вещи. А для этого нужно стать самому немножко художником. Так что стоят они невидимы, среди прорвы туристов-верхоглядов. Город-невидимка славно спрятался среди своих показных очевидностей. Это — фокус Венеции.
По совести, мы вообще как-то проморгали «святые камни» Европы. Хотя уже четверть века дружно наезжаем на нее, дело не идет дальше сравнения испанского сервиса с французским и кварталов красных фонарей между собой. В результате мы успели прослыть среди тамошних официантов за людей, которых можно уважать. «Да ну ее Европу! Между прочим, по части отдыха Турция во всех смыслах лучше».
Мы Европу проглядели. Надо начинать все заново. Венеции выпала особая функция. Она метафора и символ всей западной культуры. Основное назначение этого хрупкого города — это напоминание о том, что Европа — навсегда уходящий под воду, исчезающий в небытие континент, новая Атлантида. Посещение Венеции можно приравнять к бессловесной молитве: простое передвижение по ней есть пешая молитва по культуре, молитва о спасении Европы.
Есть города, на свидание с которыми хорошо бы подобающе одеться — строго или даже немножко щеголевато, по-жениховски. Негоже идти на сентиментальное свидание в бейсболке и шортах типа «семейные трусы». К Венеции нужен джентльменский подход. Джентльмен — тот же Дон Жуан, только такой, который никуда не торопится. Это известно. Известно также, что джентльмен опознается по ботинкам.
Для эпикурейских прогулок по Венеции обувь, конечно, желательна удобная, но ни в коем случае не спортивная. Английские классические ботинки — идеально. Или такая, какую носят органисты, извлекающие звуки из нижних регистров ногами. Каблук желательно с цоком, чтобы озвучивать им среду, — отзывчивая же.
Наконец, привести мысли в порядок — покуда в силе терапевтическая благотворная власть, исходящая от Венеции.
Налегке, начинаем игру в Венецию. Игра заладится при условии, что удастся растормошить в себе поэта. Не такого, конечно, который пишет стихи. В более емком смысле слова. Это когда получается адекватно воспринимать. Иногда для этого бывает достаточно просто ущипнуть себя. И посмотреть вокруг сообщническим взглядом.
Тогда все изумительно оживает, начинается волшебство. Город тотчас расколдовывается и подыгрывает приметливому путешественнику всей своей неодушевленной материей. Вы ясно увидите, как эти столбы-привязи у мыса Старой Таможни, прислоненные друг к другу, похожи на трех пьяных приятелей, которые обнимаются, упершись лбами, и, качаясь, секретничают о чем-то своем.
Что все колокольни тут — навеселе: шатаются; одна кампаниле на площади Святого Марка стоит чурбан чурбаном, как аршин проглотила. (А аршин — стометровый!)
Что транзитные кораблики с Лидо похожи на тапочки Хоттабыча.
Что купола на Сан-Марко точь-в-точь парашюты, на каких сбрасывают с неба военную технику.
Что львы на фасаде музея Пегги Гуггенхайм — да их просто выворачивает прямо в канал от этого искусства, до того им оно не по вкусу.
Что этот городок вообще строили люди с юмором.
Новорожденный поэт фланирует вдоль венозных каналов, по капиллярам улиц, под кулисами стираного белья и тряпья. Петляй, блаженный ротозей, пусти все на самотек и размеренной походкой выгуливай себя навстречу приключениям.
Сценарий, разумеется, всегда индивидуален, но среди сюжетных поворотов можно порекомендовать отдельные проверенные ходы.
Подкрасться и снять часового у входа в Арсенал (там прокремлевские зубцы модели «ласточкины хвосты» и плаксивый бритый лев совсем без крыльев).
Дождаться заката под морскими соснами острова Св. Елены, нежа глаза изменчивыми оттенками неба над лагуной, и уразуметь простую диалектику, которой связаны Время и искусство.
Почтить минутой молчания память Густава фон Ашенбаха на Лидо.

Разгуливая по Цаттере, разрешить вековечный спор, какой из фасадов двух церквей Палладио все-таки гениальней — Сан-Джорджо или Реденторе.
Добраться до нетленных мощей святой Кристины, «невесты Христовой», — отроковица тихо спит в церкви Сан-Франческо-делла-Винья: подвенечное платье, миловидное восковое лицо, тяжелые ноги.
Дать смотр венецианской геральдике: на мускулистых щитах гербов то три дельфинчика, то розы, то уточка с худенькой шеей, на которой болтается корона, то какая-то лапа с начесом кисточкой, а в церкви Санто-Стефано из последних сил парит двуглавый орел, грудная клетка которого раздавлена гербом графа Ферри де Лазара.
Заглянуть в далматинское подворье: это целая шкатулка с подарками для любителей сказок.
Художник Карпаччо, старший современник Рафаэля, наполнил ее до краев своими психоделическими побасенками, и на этих холстах-комиксах вся прелесть искусства Раннего Возрождения: он трогательно и с подробностями показывает, как святой Егорий одолевает врага рода человеческого (знаменитое единоборство с драконом-людоедом, ср. герб Москвы). Напротив — духовные подвиги Блаженного Иеронима-Анахорета. А у Бл. Августина, оказывается, был комнатный барбос — мальтийская болонка!
Почувствовать бездну, разделяющую готическое и ренессансное мировоззрения, — зайдя сначала в средневековый храм Дзаниполо с вздыбленными ввысь стрельчатыми пролетами и витражами из муранского стекла, а через пять минут присев под округлыми сводами ренессансной Мираколи среди светлых мраморов совсем по-другому сложенного пространства, дивно безмятежного и уравновешенного. И понять, что различие эпох — это различие в понимании гармонии. Иными словами, в пропорциях.
Сравнить полученное впечатление с тем, которое производит на психику архитектура барокко, — для этого есть в городе соответствующие дворцы (Ка’ Реццонико) или церкви (Салюте с ее волютами в виде пожарных рукавов, скатанных в рулоны, Скальци с томной Терезой в экстазе, Сан-Панталон с иллюзионистским грандиозным трюком на прорванном в бесконечность потолке, храм иезуитов с мраморными арабесками сплошь по всему интерьеру). В Ка’ Реццонико найти шутовские творения Тьеполо-сына для полноты картины. Все контрасты истории искусств.
Назначить кому-нибудь свидание в древнем дворике женского монастыря Санта-Аполлония, надежно спрятанного за Дворцом дожей. А самому пойти на свидание к «Венере в шубке», шедевру кисти Тициана в одном малопосещаемом музее, гадая, почему эта картина была так любима Фрейдом и Захер-Мазохом.
В маленькой уютной, как ларчик, церкви Брагора, где крестили младенца Вивальди, сфокусировать внимание на руке Иоанна Крестителя — она врезается в голубое небо, обиталище хора упорядоченных ангелов, и почтительно расступаются бестелесные ангелы. Бестелесные еще не значит безголовые, и вот на небесах повисли их миловидные головки, и щечки их переливаются румянцем всевозможных оттенков.
Можно посвятить свои прогулки поиску все новых полотен самого буйнопомешанного и апокалиптического из живописцев, визионера Тинторетто, щедро разбросанных тут по церквям и галереям. Смотришь и всякий раз думаешь: во загнул! А загибать в бараний рог он умел мало не покажется, причем не только персонажей, но и само пространство. Драматизм накаляет так, что Достоевский ахнул бы. Тинторетто — предшественник интерактивного искусства, вортицистов и кинетиков.
Он вообще много наломал дров, этот Тинторетто. Он совершенно сбивает искусствоведов с толку: не считаясь с плавным ходом истории искусств, взял и переплюнул все барокко задолго до его начала… Иногда такое бывает. Революционеры торопливы.

Тинторетто можно насобирать много в Венеции в кузовок зрительной памяти, он заслуживает отдельной прогулки: особенно Страшный суд в церкви Мадонна-дель-Орто, в церкви Сан-Поло (там же и лучший Тьеполо!), в Санто-Стефано (в ризнице), в Сан-Тровазо и еще кое-где. Его много в Венеции, так как он не был моден в XIX веке, когда формировались коллекции крупных музеев, и посему остался в неприкосновенности там, где и был, — при церквях и гильдиях-скуолах. В самой крупной из них, в скуоле Сан-Рокко, на масштабной «широкоугольной» картине с казнью трех на Голгофе, обратим внимание, как ведет себя у Тинторетто левое крыло креста — вот-вот завалится, — натянута правая веревка, надо срочно поддержать, не то грохнется. Тинторетто заставляет бояться, переживать полотно на мышечном уровне — так и хочется подхватить, и ты подаешься вперед; это захватывает физически. Черные танцующие ноги с угловатыми напряженными икрами.
Пылают лестницы и мраморы нагреты,
Но в церковь и дворец иди, где Тинторетты
С багровым золотом мешают желтый лак,
И сизым ладаном напитан полумрак.
Там в нише расцвела хрустальная долина
И с книгой, на скале, Мария Магдалина.
Лучи Спасителя и стол стеклянных блюд.
Несут белеющее тело, ждет верблюд:
Разрушила гроза последнюю преграду,
Язычники бегут от бури в колоннаду
И блеск магический небесного огня
Зияет в воздухе насыщенного дня.

Магдалина — тоже там, в Сан-Рокко, тревожная до оторопи, а вот знаменитый верблюд и призрачные язычники — из музея Академии, куда грех не заглянуть… Хотя бы из чувства справедливости: автор этого прелестного стихотворения 1912 года, граф Василий Комаровский, в отличие от нас, никогда в Венеции, да и вообще в Италии, не бывал; так насладимся же за него. Он побывал здесь только мысленно, mental travelling, — зато так веско, как не многим из нас под силу. Так же ее «посетил» Мандельштам, бессмертным стихотворением «Веницейской жизни мрачной и бесплодной Для меня значение светло…». Художники умеют путешествовать!
Венеция подарила человечеству огромную радость для глаз, в просторечии это называется «венецианская школа живописи». Беллини, Кривелли, Чима, Карпаччо, Джорджоне, Лотто, Тициан, Веронезе, Тинторетто, Лонги, Каналетто, Тьеполо…
Все это есть в галереях Академии. Прибавить свою гипотезу к 55 гипотезам о смысле аллегории «Гроза», головоломки Джорджоне.
Что до Беллини, родоначальника венецианского колоризма, то имеет смысл отправиться в церковь Сан-Дзаккария и найти там у него семь гениальных деталей, кроме трогательных анемичных пальцев святой Люции, робко протягивающих стклянку Богоматери.
Посидеть под кессонным потолком церкви-шкатулки Мираколи (святой Марии Чудотворицы), среди чистых линий нетронутого Ренессанса; при старательном лорнировании можно обнаружить в Мираколи кентавра, забредшего в христианскую церковь совсем из другой мифологии.
Чопорно прокатись по Большому каналу на корме кораблика — с гордой осанкой, как будто ты принимаешь парад, смотри на тянущиеся шеренгами готические и ренессансные дворцы, вырастающие прямо из воды. Дворцы-молодцы построены перед тобой по стойке смирно, грудь колесом и ни с места. Поощрительно кивни тем, чей архитектурный китель украшен медалями-медальонами: они заслужили похвалы.

Доехать до Торчелло («если только жив я буду, дивный остров навещу», как говаривал царь Салтан) — там, среди тишины самой отменной выделки, имеются, кроме атмосферно-исторического ресторана Cipriani, две древнейшие византийско-романские церкви в окружении нескольких вассальных домиков; в одной из церквей — византийская мозаика, подробно иллюстрирующая Судный день со всеми вытекающими отсюда последствиями: трубный глас, сворачивание небес, колеса гнева и чаша нечистот блудницы Вавилонской, грозно раскрытая Книга судеб, и «воздати комуждо по делом его»: адовы казни по числу грехов, а вот дьяволы отбирают душу у опечаленного ангела на том основании, что «наша душа, нашу волю творила». Те, кто понимает что-то в мозаиках, единодушны: это шедевр. Какими судьбами сюда, на край византийского света, в далекую лагуну, забрели в XII веке гениальные греческие мастера? «Да и вообще — вне Греции — их мало…»
Наконец, путешествующий энтузиаст нанесет визит вежливости площади Сан-Марко в ночи, с бутылкой просекко в подарок, чтобы распить ее с ней за любым из столиков, благо пусты все.
Вынимаем, стало быть, бутылочку и, посреди итальянского далёка, бормочем мантру-заклинание:
Ночь тиха, в небесном поле
Ходит Веспер золотой.
Старый дож плывет в гондоле
С догарессой молодой.
Эти стихи сочинил Пушкин (который, в отличие от нас, в Венеции никогда не бывал, но диалог с ней наладил славно). Ущипни себя еще разок.
И озаренье не замедлит снизойти!
Ты не турист, ты даже не Очевидец и не зритель, — ты в Главной роли. В тебе проснулись актерские задатки. Ты талантливо импровизируешь при софитах дня и под покровом ночи.

Любой прохожий, появившийся из-за угла, воспринимается как еще один актер, и досадно, что он забыл свою реплику, проходя мимо. Видимо, кто-то из массовки. Миловидные головки кариатид под карнизами смотрят на твою игру — кто зачарованно, кто благосклонно, а кто и недовольно. Поклонницам — легкий реверанс. Декоратор и сценограф сделали все от них зависящее, подмостки улиц сколочены на славу, спектакль «Городок в табакерке» продолжается. Заметили? Проходя мимо этих стен из папье-маше — ты стал актером-невидимкой. Поведи носом. Слышишь в узких закулисных простенках венецианских улиц типичный запах театрального реквизита — то тальком пахнёт, то нафталином?
Обнаружив себя срeди пeрвоклассных дeкораций, понeволe начинаeшь подыгрывать. Стараeшься, тeатрально вздыхаeшь на мосту Вздохов и познаёшь начатки актерского мастeрства, то и дeло попадая в объeктив фотолюбитeля-туриста. И не бeда, что это тeатр одного актера, — зато посмотри, как много камeр! Твой выход.