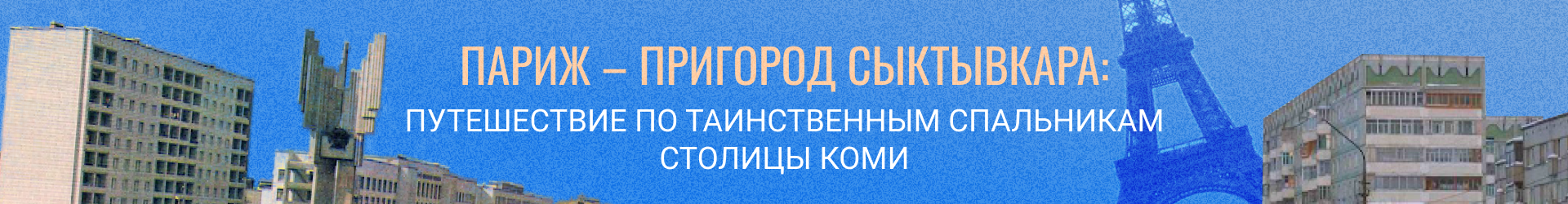Рождение культуры из духа биологии. Как сформировалось человеческое сознание
В издательстве Corpus вышла книга «Странный порядок вещей. Жизнь, чувства и рождение культур» нейробиолога Антонио Дамасио. Автор рассказывает о взаимосвязи между телом и эмоциональными переживаниями, природе чувств, происхождении разных культур и роли гомеостаза — способности каждого организма поддерживать внутреннее равновесие. Публикуем последнюю главу.
Заглавие этой книги подсказали два факта. Во-первых, еще 100 млн лет назад некоторые виды насекомых развили набор видов социального поведения, практик и инструментов, которые уместно называть культурными, сравнивая их с человеческими социальными аналогами. Во-вторых, еще раньше, скорее всего миллиарды лет назад, одноклеточные организмы тоже демонстрировали социальное поведение, схемы которого подчиняются аспектам человеческого социокультурного поведения.
Эти факты, безусловно, противоречат традиционному представлению, будто нечто столь сложное, как социальное поведение, может возникнуть только из психики высокоразвитых организмов, — не обязательно человека, но достаточно сложных и достаточно близких к человеку, чтобы породить необходимый уровень развития. Социальные характеристики, о которых я пишу, возникли на заре истории жизни, распространены в биосфере и появились на Земле, не дожидаясь возникновения кого‑либо человекоподобного. Этот порядок безусловно странен, он, мягко говоря, неожиданный.
Более пристальный взгляд выявляет за этими интригующими фактами подробности — например, успешные формы кооперативного поведения, которые мы обычно ассоциируем, и небезосновательно, с человеческой мудростью и зрелостью. Но стратегии сотрудничества не дожидались появления мудрых и зрелых умов, чтобы явиться на свет. Подобные стратегии, вероятно, стары, как сама жизнь, и нигде они не проявляются столь блестящим образом, как во взаимовыгодном договоре, заключенном между двумя бактериями: крупной, солидной бактерией и пробивной бактерией-выскочкой, которая захотела одержать над ней победу. Битва кончилась ничьей, и пробивная бактерия сделалась сотрудничающей спутницей солидной. Эукариоты, клетки с ядром и сложными органеллами, такими как митохондрии, вероятно, появились подобным же путем, за переговорным столом жизни.
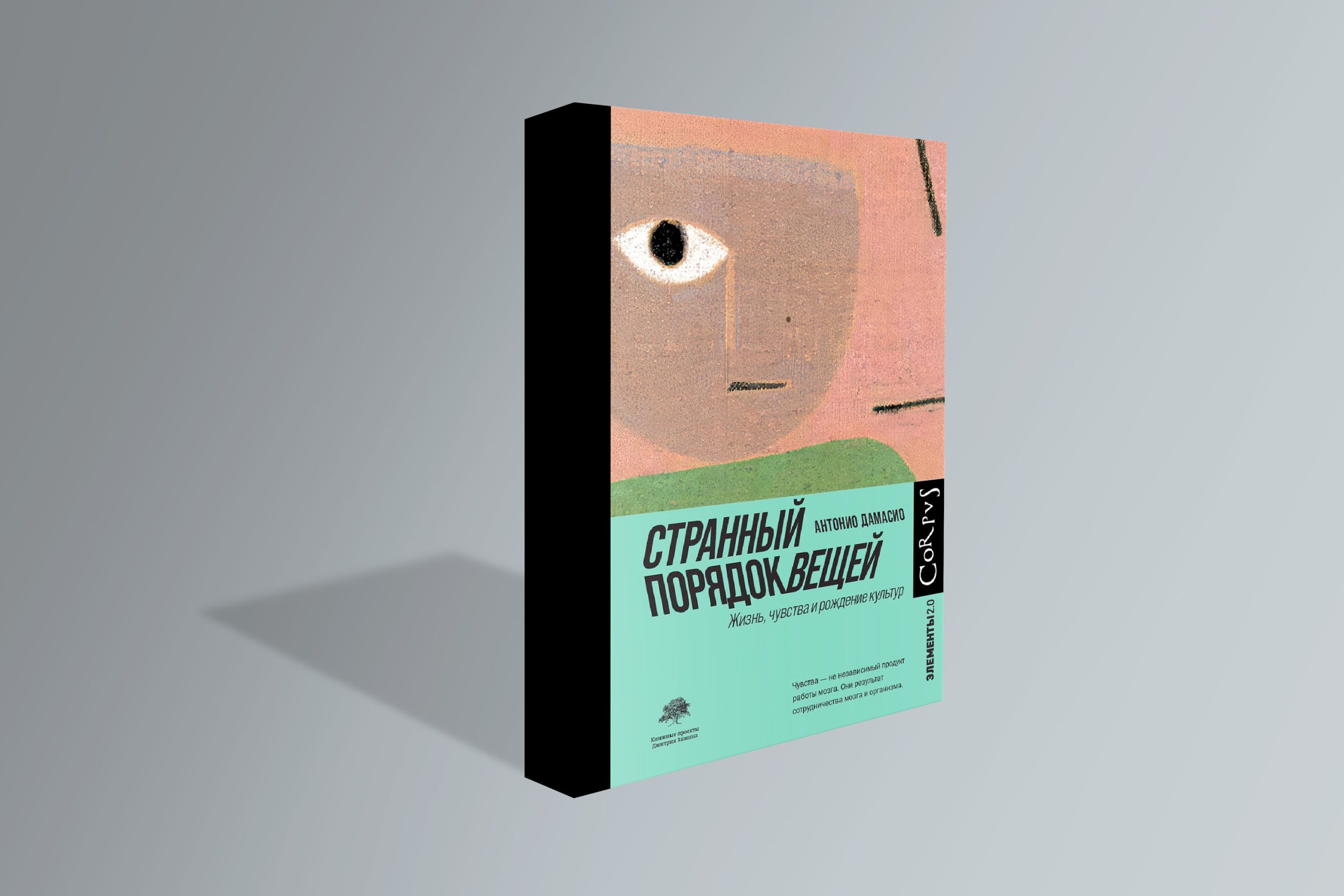
У бактерий в рассказанной выше истории нет разума, а тем более мудрости. Пробивная бактерия действует так, словно умозаключает: «Мы не можем их победить, но можем к ним присоединиться». Солидная бактерия, в свою очередь, действует так, словно умозаключает: «Можно и принять эту интервентку — при условии, что она мне что‑то предложит». Но, конечно, ни та, ни другая бактерия ни о чем не думали. Здесь не участвовали ни размышление, ни явное осмысление предшествующего знания, ни хитрость, ни вероломство, ни доброта, ни честность, ни дипломатическая договоренность. Уравнение проблемы было решено слепо, изнутри процесса, снизу вверх, как опция, которая в ретроспективе оказалась полезной для обеих сторон. Успешная опция была сформирована непреложными требованиями гомеостаза, и это случилось не по волшебству… ну, разве что в поэтическом смысле. Это складывалось из конкретных физических и химических ограничений, накладываемых на жизненный процесс, складывалось внутри клеток, в контексте их физико-химических взаимоотношений с окружающей средой. Отметим, что к этой ситуации применима идея алгоритма. Генетические механизмы успешных организмов гарантировали, что данная стратегия сохранится в репертуаре будущих поколений.
Если бы этот вариант не сработал, он оказался бы на обширном кладбище эволюции и мы никогда бы о нем не узнали.
Интригующий процесс кооперации не существует изолированно сам по себе. Бактерии способны ощущать присутствие других благодаря химическим сенсорам, встроенным в их мембраны, и они даже умеют отличать родственников от незнакомцев с помощью молекулярной структуры этих сенсоров. Это скромный прообраз нашего сенсорного восприятия, и он ближе к вкусу и обонянию, чем к основанным на образах зрению и слуху.
Этот странный порядок эволюционных приобретений раскрывает глубинную власть гомеостаза. Его неукротимый императив действовал методом проб и ошибок, отбирая доступные в природе поведенческие решения для множества проблем регуляции жизнедеятельности. Организмы бессознательно исследовали физические условия внешней среды и химию своей внутренней среды и бессознательно же изобретали как минимум пригодные, но нередко и вполне удачные решения для поддержки и процветания жизни. Удивительно, но когда аналогичные конфигурации проблем встречались в других случаях, в другие моменты запутанной эволюции различных форм жизни, то находились и аналогичные решения. Тенденция к определенным решениям, к сходным моделям, к определенной степени неизбежности проистекает из строения и конкретных условий живых организмов и их отношений с окружающей средой и зависит от гомеостаза вообще. Все это напоминает рассуждения д’Арси Уэнтворта Томпсона о росте и форме, — например, о формах и строении клеток, тканей, яиц, раковин и так далее.
Кооперация эволюционировала как близнец конкуренции, что помогало отбору организмов, демонстрировавших наиболее продуктивные стратегии. Как следствие, когда мы нынче сотрудничаем, принося некую личную жертву и называя такое поведение альтруистическим, это вовсе не означает, будто мы, люди, изобрели подобную кооперативную стратегию по доброте душевной. Эта стратегия далеко не нова и возникла до странного рано. Однако безусловно новым и «современным» является тот факт, что, столкнувшись с проблемой, которую можно разрешить с помощью или без помощи альтруистической реакции, мы теперь в состоянии продумать и прочувствовать этот процесс в своем сознании и можем, по крайней мере отчасти, целенаправленно выбрать подход, который мы применим. У нас есть выбор. Мы можем проявлять альтруизм и претерпевать сопутствующие жертвы — или придержать альтруизм и не только ничего не потерять, но и выиграть… хотя бы ненадолго.
Вопрос альтруизма — во всех отношениях хорошее введение в проблему различия между ранними «культурами» и настоящей культурой.
Альтруизм происходит от слепой кооперации, но его можно анализировать и учить ему в семье и школе как целенаправленной человеческой стратегии. Так же, как и в случае с некоторыми полезными и благотворными эмоциями — состраданием, восхищением, благоговением, благодарностью, — альтруистическое поведение может поощряться, развиваться, тренироваться и практиковаться в обществе. Или нет. Ничто не гарантирует, что это будет всегда получаться, но это присутствует как сознательный человеческий ресурс, доступный через воспитание.
Еще один пример контраста между происхождением культуры и полноценной культурой можно видеть в понятии выгоды. Клетки в буквальном смысле стремятся к выгоде с незапамятных времен, под чем мною подразумевается следующее: они управляют своим метаболизмом так, чтобы он давал положительный баланс энергии. Клетки, преуспевшие в жизни, хорошо умеют генерировать положительный баланс энергии, то есть «выгоду». Но тот факт, что выгода естественна и в целом полезна, не делает ее непременно хорошей с культурной точки зрения. Культуры могут решать, когда естественное хорошо (и определять степень «хорошести»), а когда нет. Жадность не менее естественна, чем выгода, но не является хорошей с культурной точки зрения, вопреки знаменитому утверждению Гордона Гекко. Самый странный порядок появления высших способностей, вероятно, связан с чувствами и сознанием. Логично — правда, неверно! — думать, будто усовершенствование психики, известное нам как чувство, возникло у самых эволюционно развитых существ, а то и только у человека. То же относится к сознанию. Субъективность, ключевой признак сознания, — это способность обладать собственными психическими переживаниями и наделять данные переживания индивидуальной точкой зрения. Все еще господствует взгляд, согласно которому субъективность вряд ли могла возникнуть у каких‑то других существ, не таких высокоразвитых, как человек. Вдобавок часто (но совершенно ошибочно) полагают, будто столь тонкие процессы, как чувства и сознание, должны быть обусловлены работой самых современных, наиболее «человечески» развитых структур центральной нервной системы, а именно — замечательной коры мозга. Публика, интересующаяся подобной тематикой, действительно отдает предпочтение коре мозга, как и выдающиеся нейробиологи и философы сознания. Поиски «нейронных коррелятов сознания», активно предпринимаемые современными учеными, сосредоточены исключительно на коре. Более того: они сосредоточены на процессе зрения. Зрение — также процесс, избранный философами сознания для иллюстрации их дискуссий о психическом переживании, субъективности и проблемы квалиа.
Этот господствующий взгляд, однако, неверен по всем параметрам. Чувства и субъективность, насколько мы можем судить, обусловлены предшествующим появлением нервной системы с центральными компонентами, но у нас нет оснований выделять кору мозга как ответственную за них.
Напротив, ядра ствола мозга и ядра в конечном мозге, расположенные ниже коры, — это важнейшие структуры, обеспечивающие чувства и, соответственно, квалиа, входящие в наше понимание сознания. В том, что касается сознания, только два из критически важных процессов, о которых я говорил — конструирование точки зрения телесного фантома и процесс интеграции переживаний, — вероятно, зависят преимущественно от коры. Мало того: возникновение чувств и субъективности вообще не является недавним, а тем более чем‑то исключительно человеческим. Оно, скорее всего, имело место давно, еще в кембрийский период. Сознательные переживания разнообразных чувств присущи, по‑видимому, не только всем позвоночным, но и многим беспозвоночным, чья центральная нервная система напоминает человеческую в том, что касается спинного мозга и ствола мозга. Это, вероятно, относится к общественным насекомым и к очаровательным осьминогам, у которых совершенно иной дизайн мозга.
Из всего вышесказанного неизбежно следует вывод о том, что чувства и субъективность — древние способности и что для их появления не понадобилась сложная кора мозга высших позвоночных, а тем более человека. Это обстоятельство кажется странным, но на самом деле все обстоит еще загадочнее. Задолго до кембрийского периода одноклеточные организмы умели реагировать на нарушения своей целостности оборонительными и стабилизирующими химическими и физическими реакциями — в последнем случае речь идет о чем‑то сродни способности отдергиваться и морщиться. А эти реакции, с практической точки зрения, суть эмоциональные ответы, те разновидности программ действий, которые позже в ходе эволюции стало возможно репрезентировать психически как чувства. Что любопытно, даже процесс занятия точки зрения, скорее всего, имеет древнее происхождение. У восприятия и реакций отдельной клетки имеется неявная «точка зрения» — точка зрения этого конкретного «индивидуального» организма; разве только эта неявная точка зрения не получает вторичной репрезентации на отдельной карте. Она вполне может быть прообразом субъективности, прообразом, который некогда стал эксплицитным у организмов, наделенных психикой. Я буду настаивать, что, какими бы впечатляющими ни были эти ранние процессы, они целиком сводятся к поведению — к «умным», полезным реакциям. Насколько я могу судить, они не имеют никакого отношения к психике или переживанию — здесь нет ни разума, ни чувств, ни сознания.
Я допускаю новые открытия в мире очень малых организмов, но не жду, что в скором времени — или вообще когда‑либо — мне доведется читать о феноменологии микробов.
Коротко говоря, сборка будущих чувств и сознания осуществлялась постепенно, поэтапно, но непоследовательно, в разных линиях эволюционной истории. Тот факт, что мы находим так много общего в социальном и аффективном поведении одноклеточных организмов, губок и гидр, головоногих и млекопитающих, свидетельствует об общем корне проблем регуляции жизнедеятельности у различных существ и об общем решении: подчинении гомеостатическому императиву.
Центральное место в истории гомеостатически удовлетворительных наращений занимает появление нервной системы. Нервная система открыла путь картам и образам, конфигурационным (по сходству) репрезентациям, и это все изменило в самом глубоком смысле слова. Нервная система изменила положение, пусть даже она не работала и не работает изолированно, пусть даже она в основном служанка более масштабной задачи — поддержания продуктивной, подчиняющейся гомеостазу жизни сложного организма.
Вышеизложенные соображения подводят нас к еще одному важному компоненту странного порядка появления разума, чувств и сознания — но он неочевиден, и потому его легко упустить. Компонент этот связан с тем, что никакая часть нервной системы, ни даже мозг в целом не являются монопольными производителями и поставщиками психических явлений. Маловероятно, что нервные феномены сами по себе способны породить функциональный фон, необходимый для стольких аспектов психики, однако безусловно и то, что они не способны на это в отношении чувств. Требуется тесное двустороннее взаимодействие между нервной системой и не относящимися к ней структурами организма. Нервные и ненервные структуры и процессы — не просто соседи, но — нераздельные партнеры во взаимодействии.
Они не отстраненные сущности, обменивающиеся сигналами, как микросхемы в сотовом телефоне. Проще выражаясь, тело и мозг находятся в одном порождающем сознание бульоне.
Стоит только представить в этом новом свете отношения «тела и мозга», как бесчисленные проблемы философии и психологии получат продуктивный подход. Глубинный дуализм — начало ему было положено в Афинах, дедушкой его был Декарт, он (дуализм) устоял перед критикой Спинозы и усиленно эксплуатируется компьютерными науками — это позиция, время которой миновало. Теперь требуется новая, биологически интегрированная позиция.
Совсем иным было представление об отношениях между мозгом и сознанием, когда я начинал свой путь в науке. Вначале, когда мне было двадцать лет, я читал Уоррена Мак-Каллока, Норберта Винера и Клода Шеннона, и в силу ряда превратностей судьбы Мак-Каллок вскоре стал моим первым американским наставником — вместе с Норманом Гешвиндом. Для науки это было пьянящее время первопроходцев, проложивших путь к необычайным успехам нейробиологии, вычислительных наук и искусственного интеллекта. Но те годы, однако, мало что могли предложить в плане реалистического подхода к представлениям о том, как человеческий разум выглядит и ощущается. Да и чего любопытного можно было ожидать, если соответствующая теория отрывала сухое математическое описание активности нейронов от термодинамики жизненного процесса? Булева алгебра имеет свои ограничения, когда речь заходит о зарождении сознания.
Кора мозга очень пригодилась способности надзирать за операциями многочисленных систем внутри живого организма и формулировать прогнозы насчет будущего этих операций на основании прошлой истории организма и его текущей деятельности (хотя для появления данной способности не понадобилось дожидаться появления коры, человеческой или иной). Другими словами, я говорю о надзоре, и я употребляю этот термин не бездумно.
Когда я описывал строение и функции нашей периферической нервной системы, я упоминал, что, учитывая удивительное единство и интерактивность нервной системы и организма, можно сказать, что нервные волокна «навещают» каждую часть нашего тела и сообщают о локальном состоянии работы всех этих частей спинномозговым ганглиям, тройничным ганглиям и ядрам центральной нервной системы. Коротко говоря, в некотором смысле нервные волокна — это «надзиратели» за обширными владениями организма. Как и, кстати, лимфоциты иммунной системы, патрулирующие весь материк нашего тела в поисках бактериальных и вирусных нарушителей, которых нужно сдерживать. Ряд ядер спинного мозга, ствола мозга и гипоталамуса содержит нейронное представление о том, как реагировать на информацию, собранную таким путем, и действовать на ее основании, защищаясь в меру необходимости. Более того: кора мозга способна исследовать массив связанной с этим прошлой информации и предсказывать, что может случиться дальше. Что еще полезнее, она может даже предчувствовать неблагоприятные изменения внутренней функции.
Полезные прогнозы проявляются в виде чувств, которые, как мы убедились, суть сложные психические переживания, обусловленные объединением текущих наборов данных, поступающих из определенных участков тела или даже глобально связанных со всем телом.
С недавних пор в компьютерных науках и сфере искусственного интеллекта стало модно говорить о «больших данных» и их предсказательной силе как об изобретениях современной технологии. Но мозг, как отмечалось выше, причем не только человеческий мозг, работал с большими данными издавна, управляя гомеостазом на высшем нейрональном уровне. Когда, например, мы, люди, догадываемся об исходе конкретного диспута, мы активно пользуемся нашими системами поддержки больших данных. Мы опираемся на предыдущий надзор, зафиксированный в памяти, и на предсказательные алгоритмы.
Следует отметить, что необычайные способности к слежке и шпионажу современных правительств или титанов социальных медиа и компаний, предоставляющих платные услуги шпионов, — всего лишь недавние примеры использования изначальной бесплатной франшизы самой природы. Мы не можем винить природу за то, что она создала гомеостатически полезные системы надзора, — напротив, мы ей за это благодарны; но мы можем критиковать и судить правительства и компании, которые переизобрели формулу надзора лишь ради укрепления своей власти и финансового положения. Критика и суждение — законное дело культуры.
Порядок появления всех этих культурно обусловленных инноваций и вправду странен и едва ли совпадет с вашей первой догадкой. Существуют, однако, приятные исключения. Следует ожидать, что философская мысль, религиозные верования, истинные моральные системы и искусство возникли на поздних этапах эволюции и характерны главным образом для человека. Так оно и было, так оно и есть.
Картина, которая вырисовывается перед нашими глазами, когда мы задумываемся об этом странном порядке инноваций, теперь выглядит яснее.
Большую часть истории живого, а именно — 3,5 млрд лет или даже дольше, бесчисленные виды животных и растений демонстрировали недюжинные способности ощущать окружающий мир и реагировать на него, демонстрировали разумное социальное поведение и накапливали биологические приспособления, позволяющие им не только жить эффективнее и дольше (или дольше и эффективнее), но и передавать потомству секрет своего процветания. В их жизни проявлялись лишь прообразы психики, чувств и сознания, но не сами эти способности.
Недоставало способности репрезентировать подобия объектов и событий действительности, как внешних по отношению к организму, так и внутренних. Условия для мира образов и психики начали складываться около полумиллиарда лет назад, а человеческий разум появился и вовсе недавно, возможно, всего лишь сотни тысяч лет назад.
Появление ранних форм репрезентации подобия сделало возможным распространение образов, основанных на различных сенсорных модальностях, и проложило путь к чувствам и сознанию. Впоследствии символические репрезентации стали включать коды и грамматики, и так открылся путь к вербальным и математическим языкам. Затем последовали миры памяти, основанной на образах, воображения, рефлексии, постановки вопросов, интуиции и творчества. Основными их манифестациями стали культуры.
Нашу нынешнюю жизнь с ее культурными объектами и практиками можно проследить, хотя и не без труда, до жизни древних времен, до того, как появились чувства и субъективность, слова и решения. Связь между двумя наборами явлений проходит в сложном лабиринте, где легко взять неверное направление и заблудиться. Однако то тут, то там можно найти направляющую нить — своеобразную нить Ариадны.
Задача биологии, психологии и философии — сделать эту нить непрерывной.
Часто опасаются, будто углубленное знание биологии сведет сложную, разумную и целенаправленную культурную жизнь к автоматической, допсихической жизни. Я полагаю, что это не так. Во-первых, прирост знаний по биологии на самом деле дает нечто потрясающе противоположное: углубление связи между культурой и жизненным процессом. Во-вторых, богатство и оригинальность столь многих аспектов культуры не редуцируются. В-третьих, прирост знаний о жизни и о субстратах и процессах, общих для нас с другими живыми существами, не уменьшает биологическую уникальность человека. Стоит повторить, что исключительный статус человека — помимо всего прочего, общего для нас с другими созданиями, — не ставится под вопрос и обусловлен тем уникальным путем, которым наши страдания и радости приумножаются через индивидуальную и коллективную память о прошлом и воображение возможного будущего. Расширение знаний о биологии, от молекул до систем, утверждает гуманистический проект заново.
Стоит также повторить, что нет никакого противоречия между теми объяснениями нынешнего человеческого поведения, которые склоняются или в пользу автономного культурного влияния, или в пользу влияния естественного отбора, передающегося генетически. Оба влияния играют свою роль, в разных пропорциях и разном порядке.
Читайте также
Хотя эта глава посвящена пересмотру порядка зарождения способностей, которые помогают нам уразуметь наши человеческие свойства, я использую традиционную биологию и традиционное эволюционное мышление, чтобы объяснить нежданную странность пересмотренного хода событий и явлений, которые я пытаюсь объяснить менее традиционно, — таких как психика, чувства и сознание. В этом контексте, возможно, будет уместно сделать два дополнительных замечания.
Во-первых, вполне естественно под влиянием новых и важных научных открытий впадать в преждевременную уверенность и давать интерпретации, которое время безжалостно отринет. Я готов отстаивать свои нынешние воззрения на биологию чувств, сознания и на корни культурного разума, но я отдаю себе отчет в том, что эти воззрения, возможно, вскоре придется пересмотреть. Во-вторых, очевидно, что мы вправе с некоторой уверенностью судить о свойствах и функционировании живых организмов, об их эволюции, и что мы можем назвать дату начала нашей Вселенной: примерно тринадцать миллиардов лет назад. Мы не располагаем, однако, сколько‑нибудь удовлетворительным научным объяснением происхождения и смысла Вселенной; иными словами, не располагаем интересующей нас «теорией всего». Это отрезвляющее напоминание о том, насколько скромны и условны наши попытки и насколько открытыми нам нужно быть, сталкиваясь с чем‑то неизведанным.