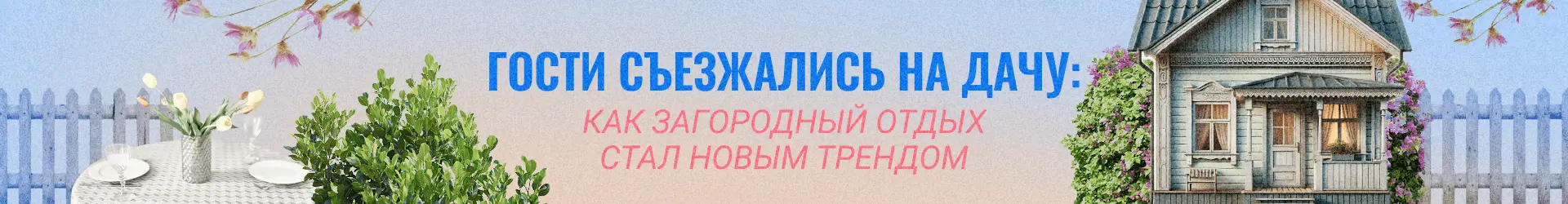Свадьба с незнакомкой, футбол с булыжником и похищение газировки из автомата: несколько летних дней из жизни студента 1950-х годов
Ленинградский студент Вячеслав Тюев начал вести дневник, чтобы в первую очередь отточить слог и так стать писателем, а во вторую — чтобы справиться с любовной тоской по прекрасной Роне, его однокурснице. Несмотря на прагматические цели записей, читать их от этого не менее интересно: Вячеслав живо и ярко описывает разудалую студенческую жизнь Питера 1950-х годов. Публикуем фрагмент из мемуаров, которые вышли в издательстве «Новое литературное обозрение»: почитайте, если хотите испытать радость узнавания себя в другом или научиться почти утраченному искусству ведения дневника, которое может заменить поход к психологу.
26 мая, суббота. Сегодня свадьба Вадима Кошкина. Невесту никто не знает.
…Я засиделся дома.
Наконец собрался. Бегу на автобус, с автобуса на трамвай. Идет двенадцатый час ночи.
Подбегаю к дому. Стоят Андрей, Гайдаренко и еще один незнакомый парень. Вошли в квартиру. Народу! И все с курса. Не знаю, с кем и здороваться. Скинул пальто — и в коридор. Здесь куча ребят. Рассказывают анекдоты. Так проходит полчаса.
Начинается. Гайдаренко загоняет всех в комнату, где состоится свадебное торжество: «Заходите. Стесняетесь, как в гостях».
Вышла заминка: не хватает стульев и стола. Бросилось в глаза: стол накрыт беднее, чем на наших групповых вечерах.

Долго решали, как рассесться. Сербы и поляки (ребята) расположились в углу, я сел на ящик, стол — подушка от дивана, тоже на ящике. Четверо сидят перед этой подушкой на кровати, с одного ее края; с другого края, перед настоящим столом — девочки. Они передали нам со стола что надо. Глинтвейн, теплый! Входит Романов, сообщает: «Познакомьтесь со свадебным обрядом…» Объясняет его в двух словах.
— Учтите, сейчас первый час ночи. «Горько» можно кричать до часу.
Многие зароптали: до двух! Сегодня суббота, соседи отоспятся.
Романыч скрылся. Проходит минута. Дверь раскрывается. Шафер ведет Вадима. Вадим серьезный. Проходя мимо, схватил меня за руку, крепко пожал.
Ищу глазами невесту. И не вижу незнакомой девушки. Где же невеста? А вот, наверное… Это определяю по тому, что она идет впереди, густо покрасневшая и в новом платье. Удивляюсь: много раз встречал ее на факультете. Неказистая такая девушка. А шаферы уже берут рюмки. Пьют. Мы не пьем. Шаферы — Лешка и Романыч.
Выпили. И вдруг совершенно для меня неожиданно полетели через всю комнату рюмки. С треском разбились одна за другой. Вадим посмотрел на свой большой бокал и, по-видимому, пожалел его, поставил на стол. Тут и мы подняли стаканы. Чокнулись с Вадимом. Шум. Все пьют. Невеста с бокалом в руках обходит стол. Подошла и к нам. Узнав нас, сказала решительно и строго (почему-то я удивился, что невеста может так говорить, решительно, спокойно и отнюдь не нежно): «Ах, вы уже выпили!» И ушла.
Потом Андрей поднес молодоженам наш подарок — быка. Статуэтку внушительных размеров. Все хлопали. А пьяный Сосковец (он вино пил еще на кухне, сообщил с обиженным видом Андрей) запел: «О, бог Гименей!..» Голос плох, оттого ли, что пьян Сосковец.
С «горько» получилось неудачно. Были отдельные, разрозненные выкрики. Поэтому молодые в нерешительности переглядывались: целоваться ли…
Раздался голос Романыча:
— Жених говорит: мало кричите.
Хором гаркнули: горько!
Вадим сделал движение, словно махнул рукой невесте: эх, все равно пропадать! Они только начали целоваться, а все уже замолчали. В тишине и молодым неловко стало.
Потом, когда все «подзаложили», понеслись возгласы:
— Попоем!
Читайте также
Проект «Прожито»: о чем мечтали и тревожились советские интеллигенты, крестьяне и школьники
Большинство ребят подалось в переднюю. Здесь стоял столик, и на этом столике для ребят было маленько припасено.
В комнате танцевали, в передней спорили. И я спорил — о Макогоненко: мол, революционер в литературоведении.
Кончив спорить, вернулись в комнату. Многие девушки лежали по кроватям, по двое, по трое. Засыпали.
Потом мы пели. И Димка Гайдаренко — с нами. Потом Рыжик сломал патефон, и пьяный Талицкий чинил его. Не починил, конечно. Потом раздался чей-то голос: «Где невеста с женихом?» (Они, оказывается, гуляли по ночному городу, ходили к Мойке.) Андрей дулся на Сосковца: выпил все! Поляки сидели у окна и никуда оттуда не вылезали. Я ходил из коридора в комнату и обратно.
Валя и незнакомый парень сбежали целоваться (на следующий день ребята говорили: она вернулась с синюшными губами).
Перед утром многие спали. Кто не спал, пили чай. И только я вышагивал взад и вперед по комнате, ревел басом.
8 июня, пятница. На Невском видел Жарова в белой шляпе, в белом плаще, высокого роста, глаза сощурены или заплывшие смотрят поверх толпы.
16 июня, суббота. Я, Витька Калинин, Петька Замятин, Лида Песочникова, Нина Михайлова и другие девчата катались на лодке по Неве. Я греб, был участником их разговоров, видел их отношения, и явилась мысль, немного удивившая меня и обрадовавшая: у нас в группе меж ребят коллектива все-таки нет, а вот у Витьки и Петьки, живущих в университетском общежитии, и у этих девушек, тоже из общежития, — вот у них, хотя они из разных групп, коллектив есть.
Я видел, слышал, какими простыми, открытыми, ничего не таящими про себя были они друг с другом. Лида купила всем по пирожку, а остальные говорили: у меня есть еще столько-то денег; там у нас, в общежитии, есть то-то и то-то — как-нибудь проживем. Это Лиде говорили. И я верю, что они так дружно живут. Вот бы всю нашу группу поселить в общежитии!
17 июня, воскресенье. Умер Павленко, писатель. Славят Горького. И здорово. Так что кажется: лучше Горького не было писателя. Последние известия по радио с него начинают!
День начался с того, что пошел в Палевский сад. Читал «Детство» Л. Толстого и загорал. Потом нечаянно-негаданно, как с неба свалились Валька, Сережка, двоюродные братья, и их приятель Алька Соколов. Здесь же, в саду, играли в козла, у меня дома пообедали и вернулись к Вальке, он завтра уходит в армию — в артиллеристы.
Купив два пол-литра, направились к Вальке на Конную улицу. Там, подавив разыгравшееся чувство досады на то, что загубил вечер, поехав с ними, сел в стороне от стола, взял журнал и уставился в него, ожидая, что будет дальше.
От того, как и какую закуску они готовили, мне стало противно. А тут еще во рту появилось горькое, неприятное ощущение от вкуса водки. Зачем пожертвовал вечером, чтобы пить эту дрянь! Одно утешает: ведь это проводы брата в армию.
Но вот мне дан стакан. Я быстро его выпиваю и ничем не закусываю, кроме кусочка хлеба и белого сыра (оно так называется, это белое вещество). Ничем другим закусывать не решаюсь, брезгую. И в течение всей попойки ничем другим не закусывал, ссылаясь на то, что плотно пообедал дома.
Пью, а меня преследует мысль, будто рядом со мной находится Рона, объект моей платонической любви на филфаке, я тихо ее предупреждаю, что, мол, потерпи из-за брата моего. А терпеть, мыслится, ей надо: водку она не пьет, ей противно то, что ее окружает, то, как едят, как пьют, противен мой вид со стаканом водки в руке (специально из-за нее, мыслится, я сбегал в магазин за вином. Не пить же ей то, что и я-то заглатываю с усилием!).
Закурили. Голова чуть закружилась. Постепенно брезгливость и сожаление о загубленном вечере пропадают. Водка берет свое. Мне приятно мусолить сигарету в мундштуке — это главное, что в мундштуке; от такого форса чувствуешь удовольствие.
Запели. Валька играет на рояле, я пою басом. Все удивляются моему голосу, у меня ж в мозгу мелькает: вот бы сюда Гайдаренко, он бы их удивил!.. О Роне забываю.
Водка кончилась. Послали меня за новой водкой — кабачок внизу.
Может быть интересно
«Медведь украл у нас ведро селёдки» — отрывки из дневника русского геолога, который ищет золото
Влетел в кабак и — петь. Веселый был, чуть ли не за студента консерватории себя выдавал. И кричал всё, что брат в армию уходит. Это обстоятельство, казалось мне, увеличивает мой вес в глазах слушателей: дескать, не смотрите на меня как на впервые загулявшего мальчика, смотрите как на взрослого, брат которого, ровесник этого взрослого, уходит в армию.
Потом, помню, жали друг другу руки с каким-то папашей, с ним был сынок годков трех-четырех. Папаша: «Родина вам во что дала! Чтите!» Я, откликаясь на его призыв всем своим пьяным сердцем, снова жму ему руку, улыбаюсь и говорю, указывая на сына- пузана: вот тоже, мол, герой, замечательный человек растет.
Вернулся к ребятам, а дома уже Василий, Валькин отец. Заспорили о Шаляпине, Рейзене. Спор затянулся. «У тебя батькина хорошая черта, — говорит Василий. — Споришь хорошо. Хоть и не знаешь. На вот, выпей…» И я снова пью. В споре о моем голосе Василий, довоенный выпускник консерватории по классу вокала, утверждает, что у меня или тенор, или нет голоса вообще. Я, Сережка и Валькина мать настаиваем, что у меня бас. В общем, талант, приходят все к общему выводу, и мне весело думать о себе так.
Потом пошли гулять. Уже ночь, хотя и светло. Дворовые ворота закрыты. Пришлось лезть через забор во дворе.
(Спутал! Это был уже второй наш выход в ночь. Первый раз пошли гулять часов в 12, к Мишке пошли. Идем по улице, поем про негра. Хоть и пьяны, поем на удивление не похабную песню, а пропагандирующую мир; у негра черная кожа, но он тоже человек — такова главная мысль песни. Идем обнявшись. Прохожие смотрят, провожают взглядами, улыбаются, а мы идем с таким ощущением, будто победители по освобожденному ими городу; оттого и весело тем людям, что смотрят на нас, они, может, смеются над нами, но мы не догадываемся об этом, мы, победители, идем гордо, по самой середине улицы и поем про негра. Потом, помню, хватали девок, пытались их ловить.)
Но вот идем теперь уже глубокой ночью. Я держусь по сравнению с Сергеем так, как будто мало пил, а пил я и больше его, и так, как никто не пил («Выпьешь по-польски?» — «Выпью!» И я выпил мелкими глотками почти стакан. И горло прополоскал водкой).
Ребята говорят:
— Славка здорово держится.
— Еще бы, он физически сильнее.
То, что я, по их словам, физически сильнее, мне слышать приятно, и все последующее время я только и делаю, что стараюсь показать, что я почти не пьян, т.е. сильнее их физически. Мысль о том, чтобы не упасть в их глазах, все время сторожит меня.
Сергей признается мне, какие у него проблемы с бабами. От этого он становится мне почему-то ближе, милее. «Дорогой Сергей, — думаю я пьяно. — Тебе бы бабу, но ночью бабы не найти. Жалко».
А потом было…
летчик с девушкой. «Лучше, ребята, не связывайтесь!»
карты,
игра в булыжник посреди мостовой, как в футбол,
пьем газированную воду на Невском, отколупнув крантик в емкости, где эта вода содержится.
И еще: стою у умывальника, голова на кране, думаю: «Я пьяный, вдруг упаду, ведь может это быть, ведь я пьян», — мысль эта забавна.
Мне смешно от того, как было бы нелепо, если бы человек, находясь в здравом уме, вдруг упал возле умывальника; это необыкновенно, непростительно — упасть ни с того ни с сего рядом с умывальником. Однако сейчас, в ином человеческом состоянии, упасть мне можно, и это мне простится, это не будет никому казаться необыкновенным (а ведь и сейчас я все-таки нормальный!). И мне забавно, что сейчас мне можно упасть и что меня за это не осудят. И я чувствую, что мне хочется упасть, и мне задорно видеть себя упавшим и одновременно ждать: вот-вот упаду.
Возвращался от Вальки в семь утра. Не иду, а влачусь, голова трещит, в ней готова разорваться бомба. Губы, зубы пересохли, они мерзко, сухо соприкасаются друг с другом. В животе, во всем организме — яд. Чувствую: сейчас вырвет. Стону, и от того, что стону (хотя мог и не стонать — стонать в этом положении мне кажется картинным), мне все же легче.