Откровение от Тарковского. Апокалиптические мотивы в фильмах «Андрей Рублев» и «Солярис»
Фильмы легендарного Андрея Тарковского хорошо известны и массовому зрителю, и критикам, однако некоторые мотивы его творчества до сих пор мало изучены. Один из них — сюжеты и образы из Откровения Иоанна Богослова, к которым режиссер обращался неоднократно. Кинокритик Андрей Волков рассказывает об апокалиптической тематике в творчестве Тарковского на примере фильмов «Андрей Рублев» и «Солярис».
Творчество отечественных режиссеров изучено у нас в стране гораздо больше, нежели зарубежных классиков. В советское время многие западные постановщики, особенно европейского артхауса, считались представителями упадочного буржуазного искусства. Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить, сколько кругов бюрократического ада пришлось преодолеть Григорию Чухраю, председателю жюри III ММКФ, чтобы гран-при фестиваля увез домой Федерико Феллини, а не театральный режиссер и критик Виктор Комиссаржевский, дебютировавший в игровом кино идеологически правильной производственной драмой «Знакомьтесь, Балуев!». А в новое время подоспели новые герои, но никто до сих пор не написал диссертацию, например, о киномире Ингмара Бергмана, и лишь недавно вышла первая отечественная монография киноведа Ирины Рубановой «Бергман. Театр. Кино».
Из всех российских режиссеров наиболее изученным считается Сергей Эйзенштейн. В Москве есть целый Эйзенштейн-центр, под эгидой которого выходит главный теоретический журнал, посвященный кино, в России — «Киноведческие записки». Андрей Тарковский (1932–1986), лидер советского артхауса и любимец интеллектуалов всего мира, изучен чуть меньше. Он свободно творил лишь в период недолгой «оттепели», а в годы застоя Андрею Арсеньевичу приходилось биться с советской цензурой, чтобы отстоять свое видение фильмов. По приказу партийного начальства от киноиндустрии был покромсан «Андрей Рублев», вплоть до замены авторского названия «Страсти по Андрею». Подлинное бесчинство цензура сотворила с «Зеркалом», которое избежало почти неизбежных правок и сокращений, но зато председатель Госкино Филипп Ермаш сделал все, чтобы «Зеркало» увидело как можно меньше зрителей. Лента была продана для зарубежного проката, однако так и не была представлена ни на одном кинофестивале, несмотря на международный успех «Иванова детства», полнометражного дебюта Тарковского.

Религиозность режиссера не следует преувеличивать. Сам Андрей Арсеньевич резко возражал по поводу причисления «Андрея Рублева» к православному кино, говоря, что это не агиография святого Андрея Рублева, а притча о художнике. Режиссеру был близок такой образ Рублева: сталинское время, на которое пришлась юность Тарковского, едва ли уступало мраку XV века, когда жил и творил заглавный герой его фильма.
Андрей Тарковский был последовательным сторонником авторского кино (среди его кумиров Ингмар Бергман, Робер Брессон и Луис Бунюэль) и не снимал для масс. Его ленты наполнены огромным количеством аллюзий — не столько на другие фильмы (постмодернизм в духе Тарантино был еще впереди), сколько на культуру разных эпох. Религию режиссер считал тоже частью мировой культуры, а апокалиптические мотивы встречаются почти во всех его зрелых фильмах. О некоторых из них мы и поговорим.
Нетварный свет искусства
Хотя почти все фильмы Андрея Тарковского — притчи, они имеют зрелищную форму. «Иваново детство» создано в антураже военного кино, «Андрей Рублев» внешне является историко-биографическим фильмом (этот жанр в сталинские годы был одним из самых популярных у кинематографистов), «Солярис» и «Сталкер» сняты в немыслимой для соцреализма фантастической обертке и даже заграничная работа режиссера «Жертвоприношение» имеет черты апокалиптической драмы, легко вставая в семантический ряд франшизы «Безумный Макс» и ее многочисленных подражаний, а также лент вроде «Нити» (1984), предупреждающих о фатальности ядерной войны.
«Андрей Рублев» справедливо считается одним из лучших фильмов мирового кино.
Несмотря на продолжительность (в прошлом году вышла почти 3,5-часовая версия), фильм отличается удивительно плавным ритмом. Течение кинематографического времени в «Андрее Рублеве» подобно реке, которая то ускоряет свой бег, то замедляется, огибая пороги, но движение ее так же неизменно и постоянно, как сама жизнь.

В 1960-х в советском кино не было недостатка в метафизике. Пришло новое поколение режиссеров, которые не желали снимать по лекалам сталинского кино (и не рисковали за это быть отлученными от профессии), чувствовали как запросы зрителей, так и мировые тенденции (во Франции в это время бурлила «новая волна», тоже активно прощавшаяся с прошлым). Но, самое главное, этим постановщикам было что сказать в искусстве.
Сближаясь с поэтикой фильмов Микеланджело Антониони, новое поколение городской молодежи показывал Марлен Хуциев, в шедевре которого «Застава Ильича» исполнил камео Андрей Арсеньевич. В 1965 году, на излете «оттепели», дебютировал в полнометражном кино соавтор сценария «Андрея Рублева» Андрей Кончаловский, позже ставший, как и Тарковский, одним из немногих советских постановщиков, получивших возможность работать за границей. Другой друг и сорежиссер короткометражных фильмов Тарковского Александр Гордон в 1964 году дебютирует лентой «Бегство из рая» и в дальнейшем будет осваивать непаханное поле советского экшена. Чуть раньше дебютировал талантливый грузин Георгий Данелия, чье творчество составило экзистенциальное крыло советской комедии в противовес эксцентрике Леонида Гайдая и лирико-драматическим комедиям Эльдара Рязанова.
Однако какие бы фильмы 1960-х мы бы ни взяли, ни один не выдержит сравнения с «Андреем Рублевым» в плане новаторского мышления и вершин духа, к которым обращается режиссер сквозь немилосердную к героям реальность. Александр Солженицын после выхода фильма в советский прокат раскритиковал (в 1984 году в эмигрантском журнале «Вестник русского христианского движения») «Андрея Рублева», обвинив режиссера в том, что тот оклеветал допетровскую Русь. Единственное, что, по мнению Солженицына, могло бы извинить Тарковского — это что он, показывая жестокость XV века, на самом деле имел в виду советскую действительность. Однако постановщик отмежевался от такой интерпретации, не желая вступать с Солженицыным в дальнейшую дискуссию.
Одним из ключей к пониманию фильма Андрея Тарковского может послужить религиозная притча Ингмара Бергмана «Седьмая печать», которая в столь же темных красках изображает Швецию XIV века.
Искусство Бергмана оказало на Тарковского большое влияние: он преданно любил его до последних дней, а находясь в изгнании привлек к съемкам «Жертвоприношения» труппу шведского мастера. Однако между Тарковским и Бергманом имеются и существенные различия.
Если в «Седьмой печати» Бергман устами главного героя, рыцаря Антония Блока, ведет диалог со смертью, воплощенной в образе клоуна с трагически-серьезным лицом, то Тарковский снимает притчу об искусстве. Ему не столь важно, что Андрей Рублев монах-подвижник. Главное, что он выдающийся художник, а в памяти поколений его эпоха ассоциируется не с мрачным средневековьем, а со светлыми ликами на иконах и его главным шедевром — «Троицей». Финальные кадры «Андрея Рублева», единственные цветные во всем фильме, показывают то удивительное искусство, которое стало итогом жизни иконописца — светлое, преображающее, вневременное. Именно таким и должно быть творчество в представлении Тарковского.
Вслед за Ингмаром Бергманом советский классик обращается к самой загадочной книге библейского канона — «Апокалипсис», основанной на видении, которое бог послал своему любимому ученику Иоанну Богослову в его бытность на острове Патмос. Тарковский напоминает о новом Иерусалиме, лицезрением которого заканчивается «Апокалипсис». Откровение Иоанна Богослова — вовсе не мрачное пророчество, а надежда на новую, лучшую жизнь.

В этом режиссер следует за Бергманом, который противопоставил жестокости нравов Средневековья и отчаянию людей, со страхом ожидающим конца света, любовь, воплощенную в образе «святого семейства» — Юфа, Мии и их младенца Микаэля. Русское средневековье не вызывает у Тарковского радужных чувств — это верно почувствовал Солженицын, впрочем, не разглядев метафизический пласт фильма.
При желании время действия ленты вполне можно сопоставить с советской действительностью — никто не отменял ни широту аналогий, которые позволяет проводить «Андрей Рублев». Однако совершенно справедливо мнение, что Тарковский творил вневременную притчу, пользуясь образами из «Апокалипсиса» ради того, чтобы подчеркнуть, как искусство преображает серую действительность, а человек, видя окружающую жестокость, не заражается унынием, но вырывается из оков земного бытия в творческом акте соединения с богом. Именно как «христианскую потусторонность» искусства понимал религиозный философ Николай Бердяев в своем труде «Смысл творчества».
Начало ленты рифмуется с финалом по принципу антитезы. Ефим, энтузиаст-изобретатель, испытывает воздушный шар, чтобы летать в небе словно птица. Краткий миг полета заканчивается гибелью Ефима. Для режиссера это не трагедия — Ефим пережил свой, выражаясь словами Бердяева, «трансцендентный прорыв», вырвался из темницы мрачной реальности, состоящей из бесконечных войн и тираний, испытал преобразующую силу вдохновения и познал перед смертью краткий миг свободы, подлинно возможный только в творчестве. Неслучайно Тарковский при помощи монтажа метафорически сопоставляет его гибель с гордым конем, который нежится на лугу, радуясь, что никто его не берет под уздцы. Все другие кони, появляющиеся в фильме, несут на своих мощных спинах либо воинов-татар, властвующих над покоренным народом, либо слуг князя, которые жестко задерживают язычника-скомороха, высмеивающего в частушках (опять же искусстве!) боярско-княжескую власть.
Словно главный герой «Седьмой печати», Андрей Рублев путешествует по средневековой Руси, наблюдая жестокость и озлобление в душах современников.
Черно-белая палитра точно передает безрадостное существование людей в стране, раздираемой татаро-монгольским игом и местными алчными князьками. Выход за пределы этой реальности заканчивается либо гибелью, как в случае с народным умельцем Ефимом, либо пленением, как в эпизоде со скоморохом, который посредством частушек воспарил над реальностью, вырвался из плена ханов и князей и обрел свой голос в акте творчества. Исповедальный мотив голоса, вдруг прорезавшегося у человека, который не мог выразить себя, — один из устойчивых в киномире Тарковского. «Я могу говорить», — с этой фразы юного главного героя начнется самый личный фильм Андрея Арсеньевича «Зеркало». Так и Андрей Рублев, принявший обет молчания и отказа от творчества, вновь обретает веру в предназначение искусства лишь после встречи с юным колокольным мастером Борисом Моториным, в котором он увидел родственную душу.
Четыре всадника Апокалипсиса, служащие в тексте Откровения метафорой, в киномире Тарковского становятся символом конца времен. Если всадник на белом коне отождествляется теологами с раздором и лицемерием, то всадник на рыжем коне — с войной. Два других всадника представляют собой своего рода производные беды от первых двух — голод и смерть.
Война в XIV веке шла не только в Европе. Допетровская Русь тоже была объята войной, в пожаре которой гибли беспомощные жертвы иноземных захватчиков, разоряющих города. Страну терзала междоусобица, а голод, неизбежное следствие любых военных конфликтов, довершал картину разорения.

Андрей Рублев своим монашеским статусом был призван к спокойному, несуетному житию, молитве и труду во славу божию. Однако и среди монахов царит раздор, и вот уже его брат во Христе Кирилл, движимый завистью из-за приглашения Андрея Рублева расписывать Благовещенский собор, со скандалом покидает монастырь. Междоусобные конфликты, вассальная зависимость Руси от Золотой Орды дополняется еще одной войной — православия с остатками язычества, вполне безобидного суеверия, укорененного в народе. Княжеские дружинники на глазах Андрея Рублева разоряют деревню накануне праздника Ивана Купала. Кажется, что нет никакой надежды в мире, охваченном пламенем войны и демонами смерти. В отличие от Бергмана, абсолютизировавшего любовь в «Седьмой печати», Тарковский противопоставляет апокалиптической картине мира искусство. Именно оно способно преобразить реальность, умилостивить сердца одержимых страстями людей и дать надежду. Искусство призвано нести в мир свет, а тьма рассеивается даже от одной зажженной лучины.
Однако творчество — это тяжелый труд, сродни труду землепашца.
Неслучайно последняя треть фильма связана с литьем колокола для храма в Суздале. Насколько тяжело, в муках, сопоставимых с рождением ребенка, отливается колокол под руководством юного мастера-литейщика Бориса Моторина, настолько он прекрасен в звоннице, блестящий золотом в солнечных лучах. Его звон пробуждает в душах людей ранее дремавшие светлые, радостные чувства. Так и творения Андрея Рублева свидетельствуют о жизни духа, том самом Фаворском свете, неугасимо разгоняющем тьму.
Все исторические периоды в той или иной степени напоминают сбывающиеся апокалиптические пророчества, ибо раздор, война, голод и смерть неизменно сопровождают всю историю человечества. По мысли Тарковского, подлинное искусство, которое приводит к катарсису, преображает человека, словно надмирный Фаворский свет и образ града Господня, Нового Иерусалима из видения Иоанна Богослова. Неслучайно Вим Вендерс назвал Тарковского «ангелом кино» в своем шедевре «Небо над Берлином», процитировав его мысль, что способность творить — это и есть образ божий в человеке.
Возвращение блудного сына
Свой следующий, третий по счету, полнометражный фильм «Солярис» Андрей Тарковский снял лишь через шесть лет, в течение которых он успел поработать над сценариями четырех фильмов (один, «Сергей Лазо», поставил его друг Александр Гордон). Это первый фильм режиссера, к которому написал саундтрек маэстро электронной музыки Эдуард Артемьев, и первая его фантастическая картина.
«Андрей Рублев» и «Солярис» во многом фильмы-антиподы, но в то же время они отмечены печатью общего стиля и размышлениями художника о месте человека в загадочном непостижимом мире. Как фильм о художнике-иконописце Андрее Рублеве не не является экранизацией его жития, так и «Солярис» не был задуман Тарковским в качестве точного переложения одноименного романа Станислава Лема на язык кино. В своих лекциях по кинорежиссуре, впервые опубликованных в журнале «Искусство кино» в 1990 году, Андрей Тарковский категорически отвергает жанр экранизации литературного произведения, таким образом отвечая на претензии Станислава Лема, резко выступившего против фильма Тарковского.

Отправной точкой создания «Соляриса», помимо самой книги Лема (уже экранизированной Борисом Ниренбургом на советском телевидении в 1968 году), послужил шедевр Стэнли Кубрика «2001: Космическая одиссея». Тарковский был впечатлен визуальным совершенством ленты Кубрика, однако ее концепция прямо расходилась с замыслом Андрея Арсеньевича. «Солярис» Тарковского можно назвать своеобразной анти-Космической одиссеей.
Произведение Кубрика — холодное философское размышление о человечестве на пороге XXI века. В ленте главным героем выступает само время или космос, поэтому сюжет фильма лишь номинально привязан к астронавту Дейву Боумену. Фильм Тарковского, напротив, уходит от космической философии максимально далеко, на что обратил внимание сам автор романа, сказав, что режиссер снял не «Солярис», а новую версию «Преступления и наказания». На литературном материале польского писателя режиссер стремился осветить земные и библейские проблемы. Переместившись из средневековой Руси в отдаленное будущее, постановщик показывает, что людей терзают одни и те же неразрешимые вопросы во все времена. Разумный океан Солярис в постановке Тарковского лишается своей субъектности и становится символом совести, а происходящее на космической станции превращается в репетицию Страшного суда.
В отличие от густонаселенного «Андрея Рублева», «Солярис» — камерный фильм. Картина мира, застывшего в ожидании суда божьего после снятия ангелом седьмой печати, заменяется миром внутренним, в первую очередь главного героя Криса Кельвина, который винит себя в самоубийстве своей жены Хари и в конфликте с отцом. Ник Кельвин в блестящем исполнении Николая Гринько, наделенного невероятным обаянием, предстает в образе не только и не столько земного отца Криса, сколько отца небесного. Неслучайно в финальном эпизоде с его участием Андрей Тарковский цитирует библейскую притчу и основанную на ней картину Рембрандта.
Возвращение сына к отцу, сына человеческого к отцу небесному — почти прямая аллюзия режиссера на финал Откровения Иоанна Богослова с образом сходящего с неба нового града Иерусалима и установлением трепетно ожидавшегося первыми христианами царства небесного.
В противовес фантастике Стэнли Кубрика Андрей Тарковский проводит аналогии между земным и небесным в духе религиозного кинематографа Ингмара Бергмана и Робера Брессона. Делая акцент на водорослях, плавающих в земном водоеме, режиссер пролагает мостик к небесному океану Солярису, почти цитируя Книгу Бытия: «И создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью». В интерпретации Тарковского планета-океан становится не столько инопланетным разумом, исследующим людей так же, как люди исследуют его, сколько небесным Армагеддоном, где силы добра и зла сходятся в последней битве. И поле этой битвы — человеческая душа.
В «Солярисе» нет образа внешнего зла. Людей мучают страсти и грехи прошлого, а планета-океан лишь воплощает их. Впоследствии британский классик Алан Паркер, большой поклонник Тарковского, покажет в «Сердце Ангела» внутренний ад и страшного суда над самим собой в антураже нуара.

Космос Тарковского удивительно вещественен. Океан Соляриса напоминает земные водоемы, а фантастические элементы вроде трехметрового ребенка из рассказа астронавта Анри Бертона не находят кинематографического отражения. Апофеозом единства земного и небесного становится финал, в котором Солярис почти неотличим от Земли из воспоминаний Криса Кельвина. Сцена примирения с отцом, заключающим блудного сына в свои объятия, свидетельствует о прощении Криса судом совести, обретении им душевного равновесия. Неслучайно первые христиане ожидали установления царствия божия прямо на Земле, где, по Книге бытия, когда-то был рай, утраченный Адамом и Евой.
Грех, раскаяние, прощение — это концепты, вокруг которых разворачивается действие «Соляриса». Несмотря на торжество науки, проблемы, стоящие перед людьми, не меняются. Тарковский видел корень этих бед прежде всего в нравственности (как говорит в видеообращении покончивший с собой астронавт Гибарян, «это не безумие... здесь что-то с совестью»), поэтому сделал космос зеркальным отражением Земли.
Это, конечно, не могло устроить Станислава Лема, идею которого о принципиальной невозможности контакта с инопланетным разумом, развивавшимся в совершенно других условиях, Тарковский заменил на диалог с богом или даже самим собой.
В интерпретации режиссера фантом умершей жены Кельвина является персонификацией чувства вины ученого, а контакт с Солярисом выступает как суд человека над самим собой. Концепция страшного суда, позаимствованная из Откровения Иоанна Богослова, усиливает образный ряд фильма. Ведь в «Апокалипсисе» главной темой выступает именно нравственность. Великий судия Иисус Христос с сонмом ангелов судит каждого человека по делам его жизни.
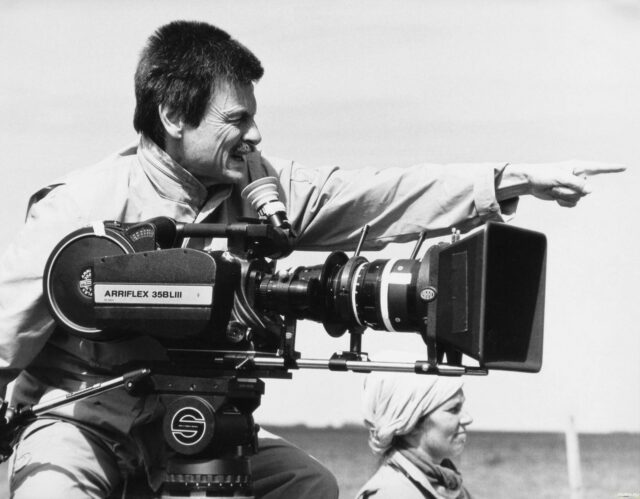
Крис Кельвин прошел несколько стадий по мере развития сюжета: отрицание своей вины, то есть фантома Хари, принятие его, осознание греховности и наконец смирение перед своей участью с надеждой на милость божию. Образ бога-отца, с любовью встречающего сына в океане Соляриса, — это и отсылка к образу Троицы, как бы дальнейшее развитие божественной темы из «Андрея Рублева», и цитата из «Сквозь темное стекло» Ингмара Бергмана, где отец почти сливается с богом в представлении сына.
«Солярис» стал вторым советским фильмом, удостоенным Гран-при Каннского кинофестиваля (не путать с «Золотой пальмовой ветвью») от жюри под председательством англо-американского постановщика Джозефа Лоузи, которого тоже весьма заботили проблемы морали. Между Лоузи и Тарковским есть еще одно сходство. В 1950-х Лоузи был вынужден уехать из США в Великобританию из-за маккартизма. На родину он больше не вернулся. В год смерти Лоузи на чужбине Андрей Тарковский, закончив съемки в Италии «Ностальгии», стал невозвращенцем и окончил свои дни на французской земле.
