«Критическое мышление поможет отличить поддельные новости от настоящих». Обсуждаем с сербским астрофизиком и просветителем Тияной Проданович пользу и вред научпопа, первые атомы и Большой взрыв
Под видом рассказа о проблемах современной науки медиа зачастую предлагают нам сенсационные новости о поисках внеземной жизни и черных дырах. Что это: рациональные ответы на вечные вопросы человечества или новые мифы, которые научное сообщество создает в погоне за деньгами? «Нож» провел дискуссию с сербским астрофизиком и просветителем Тияной Проданович о популяризации науки и критическом мышлении, а также расспросил ее о том, как во Вселенной появились первые атомы и почему науке до сих пор не всё об этом известно.
Содержание:
«Нож» благодарит фонд «Эволюция» за помощь в организации интервью.
Популяризация науки: критическое мышление или новая мифология?
— Популяризаторы часто представляют науку как фиксированный набор знаний, а не как динамичную борьбу идей, которой она на самом деле является. Как вы преодолеваете эту проблему?
— Если вы пообщаетесь с журналистами и популяризаторами, они скажут, что научная коммуникация направлена на самую широкую аудиторию и позволяет распространять базовые научные знания, но я ученый и понимаю, что научная коммуникация — это любой способ говорить о науке. Для меня такое общение — это обучение разговору с другими коллегами о различных научных проблемах, например об антибиотиках; нечто, что люди обычно называют распространением научного знания.
Читайте также:
Я пытаюсь убедить коллег-ученых, что освоение научной коммуникации дает нам навыки, которые помогают в распространении идей среди других ученых, делают нашу работу более понятной.
А научная коммуникация для широкой аудитории — это популяризация науки в общем виде и ответ на запросы общества.
Я исследую происхождение самых легких элементов во Вселенной, но люди обычно спрашивают меня не об этом. Услышав слово «астрофизика», они вспоминают об инопланетянах и черных дырах. Я склонна говорить на те темы, которые интересуют людей, чтобы привлечь их внимание и попутно рассказать им что-то новое. Так и надо использовать научную коммуникацию.
— Это же просто современная мифология, созданная для привлечения людей, и разговоры о популярной физике сводятся в худшем случае к инопланетянам, а в лучшем — к набору примитивных метафор! И разговоры о квантовой механике весьма далеки от реальных знаний о чем-либо в этой области, хотя бы о теории вероятностей или дифференциальных уравнениях.
— Это наша отправная точка. Если вы хотите кого-то заинтересовать, то сначала должны ответить на вопросы, которые уже занимают человека, верно? Или дать ему что-то, привлекающее внимание. Вот почему я всегда говорю: «Астрономия — самый простой способ продавать науку».
Если вы хотите поговорить о науке с детьми, это всегда будет разговор либо о космосе, либо о динозаврах — это то, чем они интересуются.
Сегодня внимание многих привлекают черные дыры. Это действительно необычные объекты, которые появились в науке, когда Эйнштейн сформулировал теорию относительности, и это так невообразимо и так странно. Поэтому люди наделяют их некоторыми мифологическими чертами — например, «черные дыры, которые пожирают всё», — и у них есть собственная интерпретация в научной фантастике, ведь они могут быть порталом в другую вселенную.
Вот то, что на самом деле интересует людей, так же как инопланетяне (интерес к которым вытекает из естественного вопроса «Одни ли мы во Вселенной?»). Вот то, что общественность хочет знать, и это наш путь, как ученых, к ее знаниям, к ее знакомству с наукой. Люди, которые интересуются такими темами, больше спрашивают и готовы узнавать что-то новое, а затем начинают задавать вопросы о пульсарах и о том, как из хаоса образуются планеты.
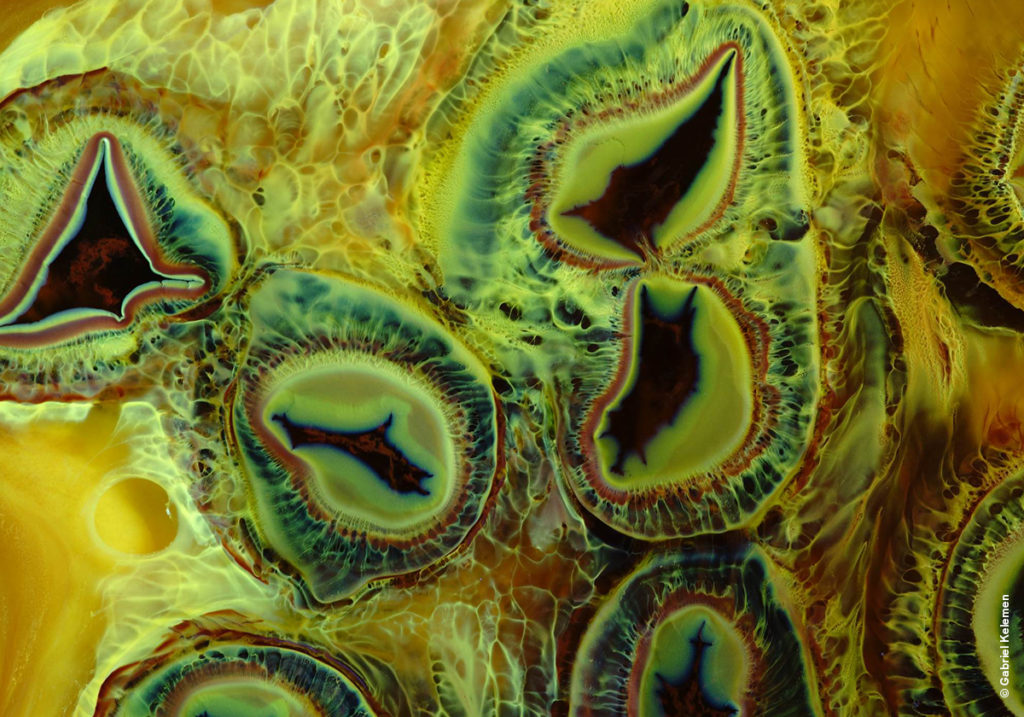
Потом они же идут дальше и сами ищут новый контент в интернете, книгах, лекциях. Если это молодые люди, они решают: «О, я собираюсь изучать физику или астрономию и хочу глубже знать этот предмет».
Мы не объясняем вещи на фундаментальном уровне, потому что фундаментальные понятия сложны и даже ученым требуется много времени, чтобы их осмыслить.
Правда, когда мы упрощаем вещи таким образом, люди думают: «Ок, это так легко» — и начинают неправильно использовать те слова, которые используем мы, в итоге появляется «квантовая медицина» и всё прочее, что не имеет ничего общего с квантовой физикой.
Да, у этого подхода есть недостатки, но я думаю, создавать то, что вы называете мифологией, необходимо, потому что именно так мы привлекаем людей к науке. Никто не придет ко мне и не спросит: «А как во Вселенной появился дейтерий?» и «Как во Вселенной появился литий?» — этого знать никто не хочет.
Может быть интересно:
Летопись копролитов: что окаменевшие фекалии рассказывают о жизни динозавров
Людей интересуют одни и те же вопросы на протяжении всей истории человечества: «Одни ли мы во Вселенной и как мы сюда попали?»
— Наука в своей основе — это критическое мышление, эксперимент и вызов здравому смыслу. А идея представления ее через мифологию, по сути, не отличается от миссионерства. Точно так же можно сказать: «Ок, а вот есть Христос, воскресивший мертвеца» — и разницы не будет.
— Критическое мышление важно, и я не согласна, что его не хватает. Если мы говорим о научной коммуникации, вы найдете целый спектр различных способов, с помощью которых мы говорим о чем-то специфичном, например о черных дырах.
Если вы возьмете ежедневные СМИ, у которых нет специализированного раздела о науке с преданным делу журналистом, то вы не найдете тексты, отражающие критическое мышление, — они просто продают научные истории с помощью чего-то привлекательного, через кликбейт. Это предназначено для широкой публики, которая обычно не заинтересована в глубоком понимании.
Есть другие журналы и порталы, которые предлагают вам более основательные материалы, тщательно продуманные статьи с изложением разных концепций. В такого рода научной журналистике вы обнаружите истории и о черных дырах, и обо всем, что связано с теорией относительности, и обязательно найдете часть, в которой сказано: «О, теория относительности Эйнштейна вновь подтверждается». Это само по себе говорит нам, что теория относительности — не то, что дано Богом, это теория, которую Эйнштейн высказал в начале ХХ века, и она выдержала испытание временем — была проверена и перепроверена.
В науке вы никогда не будете удовлетворены до конца: вы всегда должны ставить новые и новые эксперименты, и неважно, что 90%, 99% ваших экспериментов оказались успешными, если хотя бы один тест провалился — ваша теория неверна, и это то, о чем в основном рассказывают глубокие научные статьи.
Тогда даже в высоких ученых кругах люди говорят: «Эксперименты были ошибочны, а результаты неверны» — и так складывается критическое описание научной темы.
Я думаю, что для научной коммуникации нужно использовать различные СМИ в зависимости от того, какую целевую аудиторию мы пытаемся охватить. Например, у аудитории National Geographic, которая платит деньги за научпоп, есть вкус к науке, эти люди хотят знать больше, и вы можете предложить им основательный подход к темам, поговорить о критическом мышлении и обо всех верных и ошибочных вещах в науке.
Но если вы целитесь в широкую аудиторию, в людей, которые читают ежедневный журнал, привлекающий кликбейтом, вы можете дать им только попробовать науку и рассказать какие-то научные новости. Конечно, можно предложить им углубленный, критический подход к науке, но они не станут это читать.
— Такой подход превращает научную коммуникацию в форму пропаганды от социальной группы «ученые», служащую ее целям и использующую популистские лозунги. А затем «научная коммуникация» оказывается формой политической пропагандистской манипуляции, как в ситуациях, когда специально отобранные данные нейробиологии используются для поддержки тех или иных доктрин.
Всё это не имеет отношения к идеалам просвещения, но становится формой борьбы ученых за финансирование или способом подвести авторитетную базу под свои политические позиции.
Читайте также:
Идеология нейрофетишизма: новый способ стать умнее, красивее, счастливее и лишиться свободы
— В старые времена было просто просвещение и люди просто хотели что-то знать, но сейчас осталось лишь несколько наук, в рамках которых мы можем говорить только о просвещении. Астрономия одна из них, потому что исследование Вселенной стоит дорого, и оно рискованно, если осуществляется человеком. Люди задаются вопросом: какова цель? А цель — знание само по себе.
Сейчас такие исследования приводят к технологическим открытиям, но причина, по которой мы это делаем, — просто знание о Вселенной.
Сегодня наука технологически более ориентирована с точки зрения стимулирования промышленности и более политизирована, чем раньше. Политика дает нам финансирование, а науке нужно много средств. Поэтому мы должны совершенствоваться в научной коммуникации, чтобы доносить наши проблемы и идеи до политиков, которые распределяют финансирование и решают, какая тема важна.
Конечно, политики хотят видеть результаты, сейчас и быстро, и финансируется та наука, которая их обеспечивает. Впрочем, есть и другие темы, получающие сегодня наибольшее финансирование. Например, поиск экзопланет, что, кстати, соответствует нашей основной потребности — узнать, одиноки ли мы во Вселенной или есть планеты, подобные Земле? Еще одна актуальная тема — поиск темной материи. Я уверена: это то, что люди хотят знать, ведь они голосуют за политиков, а политики решают, что получит финансирование, верно?
Если политики говорят: «Мы хотим финансировать такую-то отрасль науки», — а люди не видят в ней необходимости, то они говорят: «Нет, я не буду голосовать за этого политика». В итоге политика серьезно влияет на науку и определяет то, как и чем занимаются ученые в наши дни.
Если же мы станем лучше в научной коммуникации — политика будет влиять на нас не так сильно.
Кстати, я думаю, что теперь фундаментальная наука будет в руках частных компаний, как в случае Илона Маска и Джеффа Безоса.

— А почему СМИ должны заниматься пропагандой идеологии научного сообщества и бороться за его деньги? В чем связь с независимой и объективной журналистикой?
— Это не политическая пропаганда, это обучение тому, как общаться на научные темы, чтобы их понимали СМИ и политики. Конечно, мы все продвигаем нашу собственную повестку в политике, науке, медицине, культуре — все теперь борются за финансирование.
Мы не можем просто сидеть в наших башнях из слоновой кости и говорить: «О, мы делаем важную научную работу, и когда мы говорим о науке, то используем сложный язык, так что никто не понимает нас». Людям важно понимать нас: они платят нам деньги за счет своих налогов, и мы обязаны им объяснить, чем занимаемся. Так что не думаю, что учить говорить о науке — это пропаганда и какая-то политическая программа. Это лишь способ ученых адаптироваться к изменениям в обществе, где мы не можем сказать: «Мы делаем важную работу», но должны это доказать, научившись объяснять всем важность нашей работы.
— Возможно, ученые должны влиять на общество другим образом, не вынимая из своих исследований самые кликбейтные истории и не оборачивая их в яркую упаковку, и говорить не о черных дырах, а о рациональном и критическом мышлении, чтобы научить общество новым способам мыслить и дискутировать.
— Это главный сдвиг, который происходит сейчас в научной коммуникации.
Прежде мы в основном использовали интересные темы вроде черных дыр и инопланетян. Но сейчас, когда вы видите какую-то новость в интернете, вам трудно решить, правдива она или нет. Чтобы сделать это, людям необходимо развивать критическое мышление или иметь некие начальные знания. Если у вас их нет, то критическое мышление — единственное, что поможет вам отличить поддельные новости от настоящих.
Это и должно быть нашей текущей целью. На всех публичных лекциях, которые я читаю, моя задача — показать цепочку мыслей, которые привели к открытию, рассказать, в чем были ошибки, в чем логика, какие использовались доказательства и где возникли проблемы. Освоение критического мышления и понимание процесса научных открытий помогут людям критически подходить к другим вещам, к действиям политиков, за которых они будут голосовать, ко всему, о чем они будут читать. Это сейчас самое важное, и это то, что мы пытаемся делать.
— Удавалось ли вам пообщаться на такие темы не с аудиторией на лекции, а со СМИ? Видите ли вы в средствах массовой информации площадку для разговора о реальной науке?
— Меня о таком почти никто не просит — мало кому из журналистов это интересно. Я пыталась делать это везде, где только можно, но проблема также заключается в журналистах и политике СМИ и медиакомпаний, если они хотят дать нам пространство для разговора о науке.
Может быть интересно:
Ученые против бюрократов. Как «просветители», контракты и эмоции вредят науке
У нас не так много площадок в СМИ и медийных каналов, где мы можем критически говорить о чем-то, — всем важен кликбейт, и я просто использую социальные сети, чтобы высказать мнение о том, почему это плохо. Нужно, чтобы у редакций СМИ было желание дать нам место, где бы мы могли говорить.
— Такова ситуация в современной Сербии или во всем мире? Ведь отношение к науке меняется от страны к стране: в США — конкуренция между христианскими консерваторами и хай-теком, в России — миф о советской науке и освоении космоса.
— У каждой страны свой набор проблем. Самое здоровое отношение к научной коммуникации я видела в Нидерландах, Бельгии и Франции.
Сербия — бедная страна, здесь перед вами встает вопрос: «Если мы не можем накормить людей, почему мы должны вкладывать средства в науку?»
Научная коммуникация в Сербии главным образом заключается в попытке убедить общественность, что наука важна для развития страны в целом, что она помогает образованию и стимулирует инновации.
Это борьба, которую мы все здесь ведем. В США важную роль играет религия, поэтому в некоторых штатах борьба заключается в противостоянии креационизма теории эволюции. Например, я вижу серьезный рост движения «плоской земли», как в Сербии, так и в США, и пытаюсь вести больше дискуссий на эту тему. Мы должны адаптироваться к аудитории и к тем медиа, которые используем.
— Какова ситуация с научным общением в Бельгии, Нидерландах, Франции — вы упомянули их как образец?
— Там стараются как можно раньше познакомить студентов с научной коммуникацией и объяснить им, что большой охват аудитории и общение с широкой публикой — важная часть их образования.
Мы не учим этому наших студентов. Мои коллеги в основном считают, что популяризация — пустая трата времени.
«Я теряю драгоценное время, которое мог бы потратить на научные исследования. Зачем тратить время даром, выступая с популярными докладами, организуя фестивали науки и тому подобное?» — вот их типичная позиция.
Они не хотят комментировать репортажи в СМИ, которые пугают людей грозами и наводнениями, — это, дескать, не по их части.
Во Франции, Бельгии, Нидерландах ситуация иная: от студентов требуют умения выступать на публике, распространять идеи — и студенты развивают эти навыки. К тому времени, когда они повзрослеют и станут учеными, они уже понимают, насколько важна популяризация: «Да, я занимаюсь наукой, но нужно, чтобы я еще и рассказывал о науке другим». В этом и состоит ключевое отличие: будущим ученым с самого начала объясняют, насколько это важно.
— Чем отличается аудитория просветителей в Сербии от аудитории в западноевропейском регионе?
— В Западной Европе люди более открыты для просвещения, для научно-популярного контента и серьезных научных выступлений. В Сербии вообще сложилась особая ситуация: после натовских бомбардировок у нас произошло полное солнечное затмение — но люди были очень напуганы, прятались в домах, задернув шторы, и не смотрели на затмение: им было страшно. Это происходило в 1999 году, практически в начале XXI века, в начале нового тысячелетия — люди боялись обычного астрономического явления, которое происходило много раз с тех пор, как появились Солнце и Земля!
Уровень научной грамотности низок, и люди не воспринимают науку как нечто значимое.
Это характерно для стран с неразвитой экономикой: людей волнует лишь зарабатывание денег, чтобы выжить. Дескать, от науки никогда нет никакого толку, ну ее.

В экономически более развитых странах люди осознают важность науки и культуры. В Западной Европе каждый раз, когда я посещаю музеи (не обязательно научные — художественные тоже), вижу там школьников, они приходят классами, их знакомят со многими темами с самого раннего возраста, потому что они актуальны.
А здесь мне приходится втолковывать людям элементарные вещи, чтобы убедить их в том, что наука — это важно. В Западной Европе уже можно переходить на более высокий уровень и говорить о развитии критического мышления и сложных понятиях, а здесь для начала нужно донести до людей простую мысль: да, у нас нет денег, но всё равно надо вкладывать средства в науку, потому что наука — важна.
— Как вы думаете, это связано именно с экономической ситуацией или с неким укладом мышления? Возможно, в некоторых обществах уже давно сложилось понимание важности науки и оно сохраняется в любых обстоятельствах, а в других странах иные традиции. Осознавалась ли значимость науки, например, в социалистической Югославии?
— Мне кажется, отчасти так и есть. На мой взгляд, в России осознают огромную важность науки — это обусловлено советской научной традицией. В Сербии в социалистический период ее важность тоже понимали, хотя и в меньшей степени. C развалом Югославии и началом экономического кризиса пришел упадок и понимание было утрачено, людям пришлось бороться за выживание. Так обычно и происходит, когда страна переживает кризис. Но и то, что в одних странах уровень научной культуры выше, а в других ниже, тоже верно.
Нуклеосинтез Большого взрыва
— Вы работаете над тремя вопросами — межзвездная среда, космические гамма-лучи и ядерный синтез Большого взрыва. Все эти проблемы связаны с глобальной структурой Вселенной. Можете ли вы рассказать о них, обращаясь к критическому мышлению, о важности которого мы говорили?
— Предметом моего исследования является астрофизика ядерных частиц. Моя докторская была посвящена в основном теме ядерного синтеза легких элементов, которые также называются первичными. Это первые химические элементы, появившиеся после Большого взрыва, — в основном, конечно, водород и гелий, а также дейтерий и литий.
Общепринятое представление о происхождении Вселенной состоит в том, что она возникла в результате события, названного Большим взрывом, — как нечто новое, очень горячее и полное движения, в чем проходили ядерные реакции и в процессе ядерного синтеза возникали легкие элементы.
Читайте также:
Элементарные частицы. Тайны природы, которые нам предстоит открыть
Это представление подкрепляется наблюдениями за расширением Вселенной, за реликтовым излучением и так далее. Однако если первые элементы возникли сразу после Большого взрыва, необходимо подтвердить, что их количество равно тому, что вычисляется с помощью расчетов. И всё это неплохо работает для водорода, гелия и дейтерия. Но с литием не получается — его количество не на том уровне, какой мы рассчитали исходя из представлений о Большом взрыве. Поэтому мы знаем, что полной картины у нас пока нет, и из-за этой маленькой недостающей детали до сих пор не уверены, что имеющаяся картина верна. Именно на проблеме лития и сосредоточены мои исследования, и она остается актуальной уже почти 20 лет.
Мы до сих пор не уверены, является ли эта проблема следствием того, что случилось намного позже Большого взрыва, или же такая ситуация возникла еще в условиях ранней физики Большого взрыва. Каждый раз, выступая с этими темами — Большой взрыв, ядерный синтез, — я даже в популярных лекциях упоминаю об этой проблеме.
Еще одна важная область моих исследований тоже связана с литием. Это исследование космического излучения, частиц в космосе, потому что при их взаимодействии также образуется литий. И, кроме того, возникают гамма-лучи. Космическое излучение и гамма-лучи — это уже астрофизика высоких энергий. Когда я читаю лекции студентам или популярные доклады, то стараюсь подчеркнуть, что мы, ученые, можем ошибаться — например, по поводу гамма-излучения.
Когда я была аспиранткой, имеющиеся результаты измерений указывали, что существует некое дополнительное гамма-излучение и его энергия — это было зафиксировано и измерено прибором на спутнике. Все тогда обрадовались, мы подумали, что это может быть темная материя, об этом написали кучу работ. Но дело в том, что такие эксперименты проводить дорого, так что, по сути, у нас был лишь один эксперимент на единственном спутнике, который назывался EGRET, — только он зафиксировал это гамма-излучение и его энергию. Одно-единственное измерение, больше ничего.
Когда EGRET списали и запустили новый спутник с датчиком, который называется «Ферми» (он действует и сейчас), то новые наблюдения показали, что те дополнительные гамма-лучи оказались просто аппаратной ошибкой. То есть весь наш труд, все написанные работы можно было выбросить в помойку.
Но в каком-то смысле это не мусор и всё было не напрасно, потому что это отражает процесс научного поиска. Мы видим что-то странное и пытаемся объяснить. А объяснять можно множеством разных способов, чтобы потом посмотреть, какой из них самый подходящий. То есть моя модель ничуть не лучше какой-нибудь другой, так что нам приходится состязаться.
— А вы можете больше рассказать о ядерном синтезе при Большом взрыве? Почему существует проблема с литием и почему в теории мог быть и синтез чуть более тяжелых бериллия и бора, но никто в действительности этого не наблюдал, а раннего ядерного синтеза других, еще более тяжелых элементов не было?
— Когда мы рассуждаем о ядерном синтезе при Большом взрыве, мы предполагаем условия, которые существовали в ранней Вселенной: температуру, плотность, частицы.
Может быть интересно:
Как только мы решили, какая была температура, плотность и набор изначальных частиц, остается «нажать пуск» и просто дать законам физики определить, что произойдет дальше. Мы запускаем симуляцию и видим, как Вселенная расширяется, затем некоторые элементы, частицы сталкиваются, сливаются, соединяются, образуя всё более и более тяжелую материю — до некоторого предела. Затем синтез останавливается, потому что всё это время Вселенная продолжала расширяться и остывала.
В какой-то момент она станет слишком холодной и разреженной, недостаточно плотной для того, чтобы ядерные реакции могли продолжаться. То же происходит в Солнце, в самых внешних его слоях. Температура короны составляет миллионы кельвинов, что сравнимо с температурой в центре, но ядерных реакций в ней не происходит, так как плотность частиц недостаточна. Необходимы определенные параметры как температуры, так и плотности. Поэтому у ранней Вселенной, с ее параметрами температуры и плотности частиц и при прогрессирующем расширении, было очень ограниченное количество времени — 3–20 минут — на синтез всего, что можно было синтезировать, и затем процесс остановился на бериллии, который распался на литий. И после уже не было времени для создания чего-либо более тяжелого.
Проблема в том, что мы не можем наблюдать Вселенную на ранних стадиях, не можем ее увидеть.
Самое раннее изображение Вселенной, которое у нас есть, — это микроволновое фоновое (реликтовое) излучение, которое возникло спустя 380 000 лет после Большого взрыва.
Почему так вышло? Чтобы получить изображение, нужен свет, который должен перемещаться без препятствий, чтобы ничего не изменяло его путь, а первые века после Большого взрыва Вселенная была слишком плотной для того, чтобы свет мог распространиться далеко. Свет мог пройти лишь несколько метров перед тем, как его что-то поглощало или рассеивало, он постоянно врезался в частицы. Поэтому первый свет и первое изображение Вселенной происходят из периода, расположенного уже очень далеко от времени раннего синтеза.
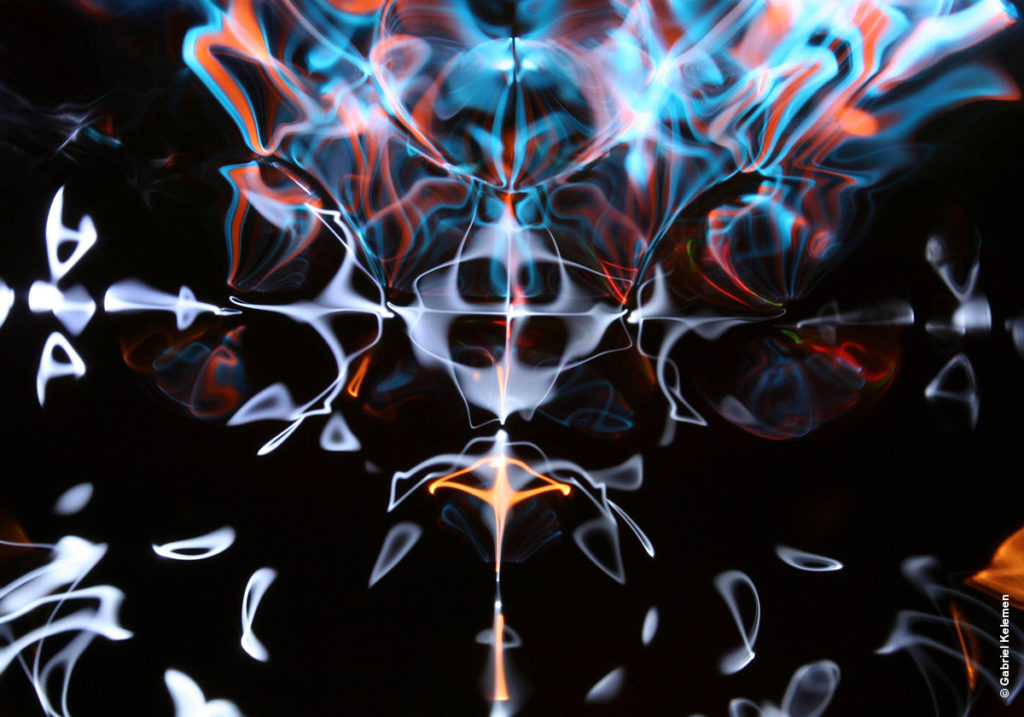
Как же мы можем проверить этот ранний синтез, если не видим его? Мы проверяем, используя уже известные нам цифры — объемы и количество гелия, лития и дейтерия, которые были рассчитаны, и затем ищем древние области Вселенной, где данные объемы и количества сохранены. Это что-то вроде космической археологии. Мы ищем места, где сохранены чистые изначальные элементы.
Проблема в том, что литий, дейтерий, гелий, водород очень различны — и у каждого своя история, с ними происходят разные события. Водорода огромные количества, он разрушается, превращается в гелий. Гелий формируется в звездах. Дейтерий вечно разрушается, потому что очень неустойчивый. Литий может разрушаться, может создаваться в звездах.
Мы не можем найти ни единой области, ни одного места, где могли бы измерить все легкие элементы. В итоге мы измеряем их в разных местах, но хотим, чтобы все эти места соответствовали одному и тому же временному периоду в ранней Вселенной — через 3 минуты после Большого взрыва.
Когда мы находим такие места — где мы измеряем дейтерий, где мы измеряем литий и где мы измеряем гелий, — все они отвечают нашим предположениям, кроме тех, где измеряется литий.
Литий измеряется в атмосферах самых древних звезд нашей галактики и галактических гало, но измерения в звездах очень осложняются тем, что литий может распадаться. В итоге мы измеряем в 2–4 раза меньше лития, чем, как мы предполагаем, было создано в момент Большого взрыва. Это и называется проблемой лития.
— Какие сейчас существуют гипотезы или идеи для ее решения? Это открытая проблема или существуют конкурирующие теории?
— Когда я была студенткой, мне было проще винить во всем наблюдения и говорить: «Вы, ребят, чего-то неправильно измерили». И это всегда было выходом из ситуации — если нам не хватало данных, сказать, что нужно больше данных.
Но сейчас, когда за многие годы проведено столько новых измерений и получено столько новой информации, а проблема так и не разрешилась, мы говорим, что, возможно, мы не понимаем, что происходит в звездах и их атмосферах и нам нужна более подробная модель. У астрофизиков есть шутка об измерениях «сферического коня в вакууме»: она о том, как мы всё измеряем с сильными допущениями, то есть всё упрощаем.
Раньше, когда компьютеры не были настолько дешевыми и простыми в использовании при создании сложных симуляций, ученые, рассуждая о звездах и о том, как они выглядят, применяли упрощения, а это могло влиять на результаты измерения лития. Но и сейчас, когда все пользуются сильно усложненными моделями звезд и их внутреннего строения, проблема остается.
Читайте также:
Вселенная без Эйнштейна: почему физики больше не ищут теорию всего
Я работала над проблемой дополнительного синтеза лития при взаимодействиях космических лучей. Данные моих исследований указали на то, что, по всей видимости, это реальная проблема и мы не можем ее решить через звездные модели или измерения. Нам нужны новые физические теории, нам нужно дополнить физику ранней Вселенной какими-то частицами темной материи, которые повлияли на изначальную распространенность элементов, или ещё чем-то подобным. Мы до сих пор исследуем этот вопрос.
— Вы также работали над исследованиями межзвездной среды. Как физика сильно разреженных сред отличается от физики сред, которые мы обычно наблюдаем вокруг себя, в звездах, повсюду. К примеру, термодинамика должна сильно отличаться?
— Она сильно отличается и с точки зрения проблемы лития, и с точки зрения метода измерения. Я имею в виду, что если вы измеряете его в межзвездной среде, тогда у вас нет проблем, вы не сомневаетесь в своих измерениях. Это простое прямое измерение. Когда же вы измеряете его в звезде, вы должны беспокоиться: правильно ли я смоделировала свою звезду, правильно ли смоделировала звездную атмосферу и так далее.
Межзвездная среда — это просто газ, там мало что происходит. Но когда она подвергается воздействию космических лучей, которые также являются частью межзвездной среды, в ней может производиться литий.
Наблюдения в межзвездной среде и в звезде очень разные, например, есть такие линии в спектрах межзвездной среды, которые мы называем запрещенными. Они очень узкие и происходят от некоторых процессов, которые протекают только в очень-очень редких случаях в средах, близких к вакууму.
— Как появление вычислительных моделей в астрофизике изменило наше понимание научных проблем?
— В астрономии вы можете только наблюдать и у вас есть только одно измерение, только одна вселенная.
Появление вычислительной астрофизики позволило нам создать много-много разных вселенных и много разных версий их симуляций, помещать в них ту физику, которую мы знаем, и прогонять эти симуляции много раз.
Это помогло нам понять, насколько уникальна наша Вселенная, когда мы получаем такой же или похожий результат, а когда нет.
Если мы поместим в симуляцию ту физику, которую знаем, и запустим ее, то получим вселенную, похожую на ту, которая у нас есть, а если мы ее изменим, то различия будут очень ощутимы. Это означает, что физика, которую мы вводим в симуляцию, верна. Например, у нас может быть только три типа нейтрино — не может быть ни четыре, ни два.
Мы, конечно, не знаем всех деталей, но, например, когда люди захотели выяснить природу нейтрино как фундаментальных частиц и потенциальных кандидатов в темную материю, они запустили симуляции и увидели, что если бы нейтрино являлись «потерянной» темной материей, то тогда вселенная, которая их производит, очень отличалась бы от вселенной, которую мы видим, так как эти нейтрино препятствуют образованию галактик, потому что они очень быстрые (мы назвали их горячими).
Однако всё еще есть место для внесения изменений, для новой физики, и мы сейчас играем с этим. Симуляции помогают нам уменьшить количество вариантов и приблизиться к возможным решениям.