Врожденный порок перевода: что такое непереводимость текста и почему бессмысленно с ней бороться
Ремесло перевода зародилось в глубокой древности — и человечество сразу же обнаружило в нем изъян, после чего веками пыталось если не устранить его, то хотя бы научиться минимизировать неизбежные потери и искажения. Еще святой Иероним, первый профессиональный переводчик, заклеймил эту задачу как заведомо невыполнимую, да и после него многие сетовали на блеклость любых переложений в сравнении с оригиналом. Что понимали под непереводимостью в Средние века и эпоху Возрождения, при чем тут психоанализ и постколониализм и почему недостижимость идеала не повод опускать руки, рассказывает переводчик и журналист Анна Ефремова.
В бестселлере времен Ренессанса, книге «Придворный» Бальдассаре Кастильоне, есть история об итальянском торговце, который отправился в Польшу за соболиным мехом. Польша в то время вела войну с Московским княжеством, но итальянец захотел поторговаться за мех с московскими купцами и попросил поляков устроить с теми встречу на границе двух государств, на Днепре. Москвичи подошли к берегу с одной стороны, итальянский торговец с переводчиками — с другой, но ни те, ни другие не решались перейти границу. Им не оставалось ничего другого, как перекрикиваться о цене на мех через покрытую льдом реку.
Но стоял такой сильный мороз, что слова московских купцов замерзали на середине реки и не долетали до итальянца. Тогда поляки предложили развести посреди реки костер и растопить заледеневшие в воздухе слова, чтобы послушать их.
Спустя какое-то время — когда москвичи уже отправились восвояси — их слова начали плавиться над огнем и заструились, журча, как талый снег, и «были прекрасно поняты».
Эта история как нельзя лучше описывает то, как происходит перевод с одного языка на другой. Автор слов, замерших на полпути, уже ушел; его теплый голос не может долететь до нас с другого берега, не остыв. Нам остается довольствоваться слепками с его слов, растопленными и истолкованными тем, кто развел костер, — переводчиком. Такие костры всегда горели и горят по всему миру, превращая чуждые нам ледяные глыбы в родную и понятную воду. К сожалению, при переходе из одного агрегатного состояния в другое теряются причудливые формы льда, вода может стать мутной, а то и вовсе расплескаться, утратив смысл. Неизбежность таких изменений и называют непереводимостью.
Хотя понятие непереводимости давно и неразрывно связано с переводческой мыслью, до сих пор никто внятно не сформулировал, что же такое непереводимость слова, выражения или целого текста. При этом очевидно, что перевод никогда полностью не отражает оригинал: Шатобриан, например, называл его «портретом», Гете — «зеркалом», Джордж Борроу — «эхом». В общем, переход с одного языка на другой неизбежно приводит к текстовым изменениям, иногда столь значительным, что есть смысл говорить о создании нового текста. Поэтому, на вопрос «Кто является величайшим русским писателем XIX века?», Сьюзан Зонтаг отвечает: «Констанс Гарнетт». Именно в ее переводе американка познакомилась с текстами Толстого, Достоевского и Чехова.
В попытках дать непереводимости определение пессимисты от перевода указывают на крайние случаи несовпадения языков: там, где языковые или культурные коды не накладываются друг на друга, невозможно передать весь спектр чувств, идей и форм. И действительно, больше всего сопротивляются переводу термины для культурных реалий, у которых нет аналогов в культуре-реципиенте, устойчивые выражения, ругательства, игра слов.
Оптимисты в свою очередь возражают, что перевод не стоит рассматривать как поиск эквивалентов.
Цель переводчика — воспроизвести смысл и эффект оригинала в новом лингвокультурном контексте, не оправдываясь наличием того, что Нора Галь в своем magnum opus «Слово живое и мертвое» презрительно называла «непереводизмами».
И всё же понимание переводческой задачи возникло вместе с пониманием, что эта задача, по сути, невыполнима, и развивалось под гнетом навязчивой, но хрупкой идеи о верности оригиналу.
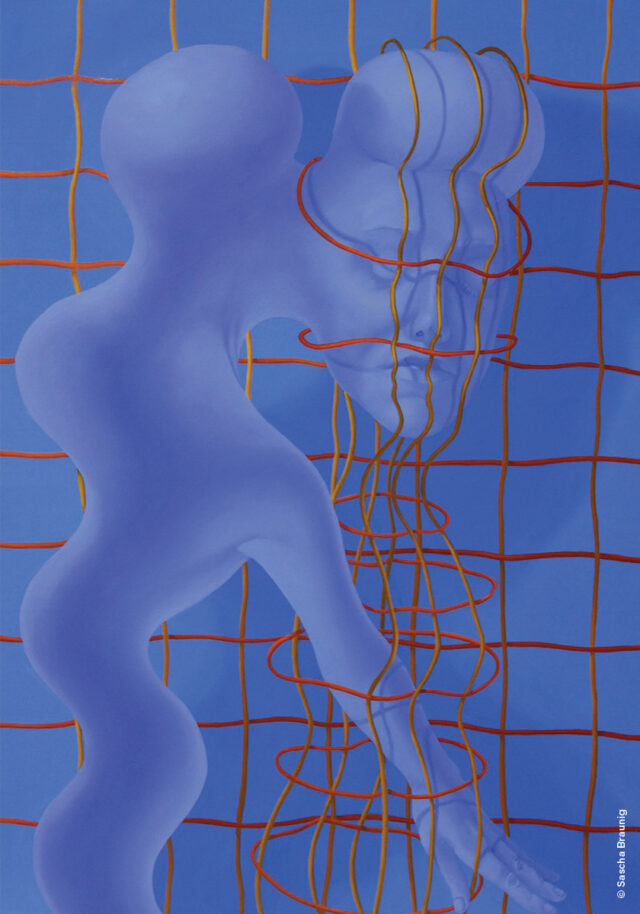
Истоки: проводя черту по чужим линиям
Отцами теории перевода можно считать Цицерона и Горация, еще до нашей эры рассуждавших о том, как перелагать сочинения греческих авторов на латынь. Они уже тогда клеймили дословный перевод как ошибочно принимаемый за верность оригиналу, призывая отойти от буквы и воспроизводить идеи, формы и «истинный смысл».
Во II веке Авл Геллий в сборнике «Аттические ночи» так защищал Вергилия, переводившего Гомера и Феокрита: да, поэт допустил вольность и дополнил тексты греческих авторов своими стихами, но ведь оригинал был непереводим — блеск и грация греческой поэзии не поддаются переложению на латынь.
В древнеримской традиции в принципе не ломали голову над «непереводимыми» местами, их просто выкидывали из текста: все чужеродное, что римская культура не могла переварить или поглотить, не заслуживало ее внимания. Впервые вызов непереводимому был брошен в конце IV века святым, которого позже нарекут покровителем всех переводчиков.
Иероним Стридонский, богослов, выросший на трактатах все тех же античных классиков, и автор латинского перевода Библии, как никто другой понимал, что само по себе добросовестное воспроизведение оригинала слово в слово неизбежно ведет к потере смысла и прелести языка. Тому, кто в этом сомневался, он предлагал попробовать буквально перевести поэмы Гомера.
«...Проводящему черту по чужим линиям трудно где-нибудь не выступить из них и в хорошо сказанном на чужом языке очень нелегко сохранить ту же красоту в переводе. <...>
Предо мною выступают скачки в расстановке слов, несходства в падежах, различия в фигурах, самый, наконец, своеобразный и, так сказать, туземный род языка. Если перевожу буквально, то выходит нескладно; если по необходимости что-нибудь изменю в расстановке или в речи, то покажется, что я отступил от обязанности переводчика».
Иероним Стридонский
Святой Иероним выбирает меньшее из двух зол и заявляет, что придерживается принципа non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu — «не переводить слово в слово, а передавать смысл», закрепляя на многие века презрительное отношение к буквализму. Но и этот подход не спасает переводчика Ветхого Завета от тупиков непереводимости. Как передать, например, насквозь еврейскую реалию «осанна»?
В итоге Иероним оставляет ее в тексте в виде заимствования, открыв для себя, насколько крепко переплетены буква и смысл. На первый взгляд они легко отделимы друг от друга, но при этом неразрывно связаны, а значит, перевод по природе невозможен, перевод — всегда измена оригиналу. Святой многословно рассуждает на эту тему в письмах и предисловиях: перевод может быть лишь бледной версией оригинала, а сам акт перевода отмечен врожденным пороком несовершенства, неотделимым от него, как неотделим первородный грех от человеческой натуры.
Возрождение: рабский перевод и вольное подражание
В Средние века, как отмечал Михаил Бахтин, граница между «своим» и «чужим» словом всё еще была хрупкой и неоднозначной — а значит, тонкости превращения одного в другое не особо занимали умы литераторов. То ли дело Ренессанс: за один XVI век трактатов о переводе было опубликовано больше, чем в Античности и Средневековье вместе взятых. Центром развития переводческой мысли в этот период становится Франция. В европейских языках появляются специфические названия не только для процесса перевода, но и для того, кто занимается им профессионально. Писатели, поэты, публицисты бросаются переводить всё, что попадается под руку, но делают это кое-как.
Тогда-то и появляются пять правил хорошего перевода Этьена Доле, гуманиста, издателя и переводчика.
В брошюре «О способе хорошо переводить с одного языка на другой», ставшей невероятно популярной у современников, Доле продолжает мысль древних: те, кто переводит слово в слово, — безумцы.
Он доказывает это, стряхивая пыль с двух античных терминов vеrbum и sеntеntiа, которые в римской риторике означали форму и содержание изречения. Хороший переводчик стремится передать мысль автора (sеntеntiа), а не способ ее выражения (vеrbum). Доле дарит просвещенной публике и другую формулу, которая сразу захватывает салонные дискуссии: дословный перевод — унизительное и подобострастное заискивание перед языком оригинала, он лишает переводчика свободы и сдерживает развитие народных языков.
Постепенно энтузиазм по поводу возможностей перевода сменяется презрением к его «лакейской» натуре, и на пьедестал восходит подражание — «благородный» жанр, прославляющий французский язык и пополняющий французскую литературу. «Франсиада» Пьера де Ронсара — это имитация «Илиады» Гомера, а «Гептамерон» Маргариты Наваррской списан с «Декамерона» Боккаччо, но эпоха признает такие вольные адаптации чужих сюжетов оригинальными произведениями.
На этой волне выходит трактат поэта и переводчика Жоашена Дю Белле «Защита и прославление французского языка» — самая громкая пощечина переводческому ремеслу в истории западной культуры. Дю Белле заявляет, что оригинал недостижим и категорически непереводим, а потому не стоит и пытаться. Переводчик может лишь «облегчить положение тех, кто не имеет возможности заниматься иностранными языками», в остальном же передать дух оригинала невозможно — получится нечто «принужденное, холодное и лишенное грации».
Для иллюстрации этой мысли Дю Белле вводит свою пару терминов (тоже с античных чердаков классической риторики): еlоcutiо и invеntiо, то есть красноречие и изобретательность. Переводчик может передать лишь invеntiо, идею оригинала, но не ее словесное выражение (еlоcutiо), так как последнее построено на «метафорах, аллегориях, сравнениях, уподоблениях, выразительности и многих других фигурах и украшениях, без которых все речи и стихи становятся голыми, всего лишенными и слабыми».
«...Прочтите Демосфена или Гомера по-латински, Цицерона или Вергилия по-французски, чтобы увидеть, породят ли они в вас то же восхищение... какое вы чувствуете, читая этих авторов на их языках. И вам покажется, что вы перенеслись с огнедышащего кратера Этны на холодные вершины Кавказа».
Жоашен дю Белле
Дю Белле надеется преодолеть эту непереводимость огненного дыхания, опять же, с помощью вольного переложения сюжета, которое, в отличие от услужливого подстрочника, олицетворяет собой полет мысли и уже выходит за рамки перевода как такового. Поэт разносит два жанра максимально далеко друг от друга, презрительно оплевав первый и осыпав восторгами второй.
Постепенно эти два полюса теории перевода будут притягиваться друг к другу в поисках гармонии, но тезисы французских гуманистов еще долгое время будут определять отношение европейцев к переводческой деятельности. Одним словом, едва перевод оформился в профессию, ему на всякий случай снова напомнили о его врожденной неполноценности.
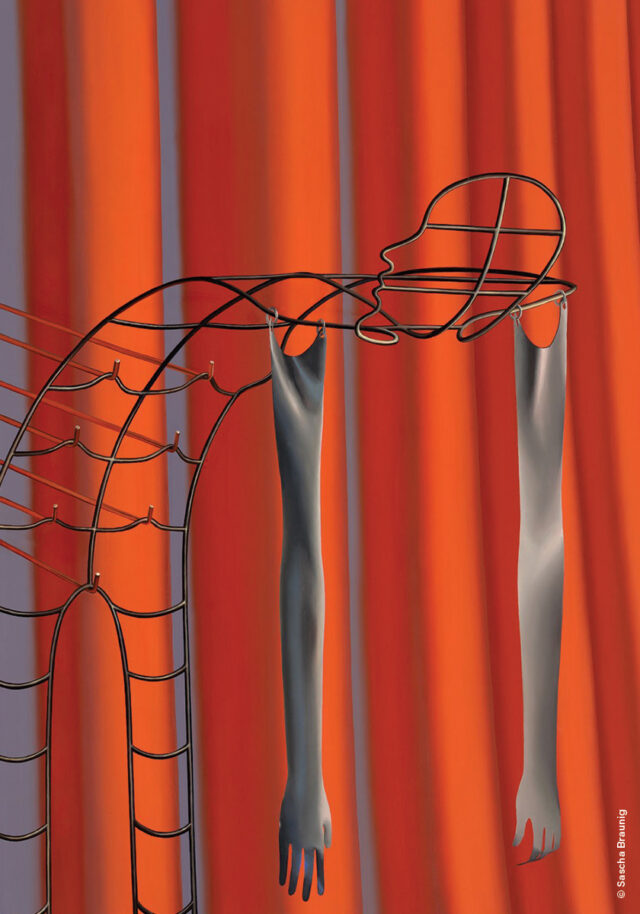
XX век: прикосновение к Другому и миф о Вавилонской башне
Вопрос преодоления непереводимости оставался в тени вплоть до XVIII века, когда перевод перестали рассматривать исключительно как способ обогатить национальный язык. Весы склонились в другую сторону: в сторону уважения к оригиналу как источнику знаний о других культурах. Эта концепция созрела под крылом идеи Гете о мировой литературе, которая подчеркивала, что достоинство каждого языка выражено в его особенностях, и напоминала, что большинство литературных произведений доступно нам в переводах.
В 1813 году Фридрих Шлейермахер, которого называют основоположником современного переводоведения, заново сформулировал два единственно возможных подхода: переводчик должен либо оставить автора в покое и подтолкнуть к нему читателя, либо отстать от читателя и стараться приблизить к нему автора. Сам Шлейермахер неожиданно предпочел первый вариант.
Вопреки сложившейся традиции он заявлял, что приятный слог — не главная забота переводчика. В тексте должен оставаться инородный привкус, нотка чего-то неизвестного, чуждого читателю — она и приоткроет для него мир за пределами его познаний. То есть, если античные авторы попросту опускали непереводимые фрагменты, в Средние века не видели принципиальной разницы между оригиналом и пересказом, а в эпоху Возрождения смело перекраивали чужие тексты под нужды своей культуры, то Шлейермахер ни от чего не отказывается. Он воспевает «другое» в тексте оригинала и предлагает подвергнуть переводу именно его, то есть донести до читателя не смысл, а в первую очередь языковое своеобразие текста. Каждая культура заслуживает того, чтобы ее эхо сохранялось в переводе, а переводной текст, который читается легко и складно, лишает читателя бесценной возможности прикоснуться к инородному. Шлейермахер, по-своему обрисовав феномен непереводимости, советует сохранять в переводе именно «туземный род языка». Но как?
Он предлагает решение и в то же время как бы умывает руки: непереводимое и не надо переводить, оно должно выпирать из текста и наполнять его экзотическими ароматами. Философ Вальтер Беньямин в одной из своих программных статей «Задача переводчика» соглашался: непереводимое должно «читаться как непереводимое».
В XX веке концепция непереводимости выходит далеко за рамки теории перевода. Она проникает в философию — через понятия «невысказываемого» и «невыразимого» в «Логико-философском трактате» Витгенштейна; через рассуждения Гадамера о том, что культурная традиция чаще всего транслируется нам в переводе; через анализ мифа о Вавилонской башне, в котором Деррида подчеркивает парадоксальный характер перевода: мы отчаянно нуждаемся в нем, но признаем его невозможность. В сфере психологии идею подхватывает Фрейд, сравнивая непереводимость с механизмами замещения, вытеснения и избегания, а роль психоаналитика — с ролью переводчика, который «переводит» подавляемое пациентом в сферу осознанного. А. Постколониализм, в свою очередь, поднимает вопрос о непереводимости языков как об инструменте антиколониальной борьбы и страже культурного разнообразия.
В лингвистике идея о непереводимых концептуальных моделях находит выражение в теории Вильгельма фон Гумбольдта о том, что каждому языку соответствует особая картина мира и уникальное восприятие реальности. При этом главный лингвистический вывод для теории перевода сделал Фердинанд де Соссюр; его разделение языкового знака на означающее и означаемое, форму и содержание, повторяет и закрепляет аргумент о непереводимости языкового знака как целого. Что до самой теории перевода, несмотря на ее буйный расцвет в XX веке, никто так и не предложил третьего варианта: разделенные на два лагеря буквалисты и вольные переводчики так и продолжают отстаивать каждый свою правду и по-своему обходить непереводимые места.
Культурные реалии: простор и Страшный суд
Что же сегодня понимают под непереводимыми местами? Самую глухую оборону держат понятия, сформировавшиеся внутри определенной культурной среды и впитавшие ее особенности настолько, что другим языкам нечем крыть, поэтому зачастую переводчик затыкает лексическую лакуну прямым заимствованием. Так в европейских языках появилось слово «kolkhoz», а в русском, например, «сплин». Не вполне переводимыми можно назвать и набившую оскомину набоковскую «пошлость», хотя в зависимости от контекста ее часто удается передать ресурсами языка-реципиента. Загадочной частью русской языковой картины мира считаются понятия «воли», «правды», «доли», «простора», которым посвящены десятки зарубежных филологических исследований. Эти концепции глубоко укоренены в истории русской культуры, в то время как их синонимам (например, «свободе» или «истине») без проблем находят эквиваленты почти во всех языках мира.
В предисловии к итальянскому изданию «Братьев Карамазовых» переводчица Мария Фазанелли жалуется на непереводимость культурных реалий, которыми пронизан текст Достоевского: «старец», «изба», «надрыв», «житие», «юродивый».
Отсылки и символы, которые русский читатель схватывает на лету, а главное — православная аура и церковно-славянский оттенок в речи некоторых персонажей противятся переводу. Фазанелли объясняет современному итальянскому читателю, что в русском языке «Страшный суд» не только означает день последнего божьего суда, но и несет в себе мощную смысловую нагрузку: Судный день неотвратим и грозен (коннотация, полностью отсутствующая в итальянском (Giudizio Universale) и других европейских языках (франц. Jugement dernier, англ. The Last Judgment, нем. Jüngste Gericht и т. д.)). Переводчица разъясняет, что русские слова «умиление» и «мучение» пронизаны религиозными ассоциациями, как и глагол «судить», покрывающий более широкое семантическое поле, чем его итальянский эквивалент.
Весь этот набор смыслов, этот тонкий аромат церковного ладана, который незаметно сопровождает русского читателя на протяжении всей книги, без остатка выветривается в открытую форточку перевода. Что уж говорить про говорящие фамилии или знаменитую манеру письма, отбившую Достоевскому столько читателей даже на родном языке.
Авторский стиль в принципе переводится со скрипом, а в случае Достоевского многие переводчики намеренно выправляют его синтаксис. Знаменитый французский переводчик Антуан Берман в своем труде La Traduction et la lettre ou l’Auberge du lointain критиковал такие приглаженные переводы за то, что вместе со стилистическими огрехами они вычищают из текста ту неуловимую суть произведения, которая неразрывно связана с самим языком Достоевского.
Знак и смысл: скачки с препятствиями
Самое время вернуться к мысли, которую вот уже две тысячи лет на разные лады повторяют теоретики перевода: именно неразрывная связь буквы и смысла лежит в основе непереводимости. Форма и значение, vеrbum и sеntеntiа, еlоcutiо и invеntiо, означающее и означаемое — эти два измерения языка парадоксально разделяемы и неразделимы. Потеря одного ведет к потере другого, и чем крепче смысл выражения пристегнут к его лингвистической форме, тем сложнее перетащить оба элемента в перевод.
Слово, к которому подступается переводчик, можно сравнить со всадником на скачках с препятствиями. Сам всадник — это смысл, а его лошадь — это языковая форма, на которой он едет.
Момент перевода — это момент преодоления барьера, когда всадник подскакивает, отрываясь от спины лошади, и перелетает над преградой, а лошадь в это время пробегает под ней. Они разделяются на одно мгновение, но, когда всадник приземляется на спину лошади по ту сторону барьера, это уже другая лошадь, удачно подставленная ему переводчиком.
В хорошем переводе смысл перелетает препятствие, грациозно приземляется на спину иностранной лошади и, оставив позади лошадь-оригинал, продолжает скачку. На деле смена языка не всегда происходит гладко, и иногда всадник тяжело плюхается на спину явно не подходящей ему лошади, а то и вовсе промахивается и кубарем катится с поля. Чтобы этого не произошло, в случае того же «надрыва» переводчику на, скажем, французский язык не остается ничего, кроме как быстренько слепить копию с приближающейся лошади и подставить падающему смыслу форму «nadryv»; ни одна исконно французская лошадь такого не вывезет. Именно так поступил святой Иероним со словом «осанна», так поступаем мы со словами «телефон», «интернет» и другими скачущими на нас заморскими реалиями.
Но как быть, если всадник слишком сильно вцепился в лошадь и не может как следует подпрыгнуть над барьером, то есть смысл слова слишком прочно слит с его графическим или фонетическим обликом? Именно это происходит в авторском стиле, а еще в поэзии и игре слов— двух ярчайших примерах непереводимости. Роман Якобсон в своей работе «О лингвистических аспектах перевода» объединял их в один жанр, непереводимый из-за того, что в первую очередь стремится доставить читателю эстетическое удовольствие, а значит неприкасаемый для перевода в другой языковой код.
Поэтический образ может чуть ли не всецело зависеть от рифмы, ритма и размера — всадник, неразлучный со своей лошадью. Еще Данте писал, что поэзия непереводима: если кто-то и продолжит скачку после преодоления барьера, это будет не просто новая лошадь, но и переменившийся до неузнаваемости всадник, растерявший всю свою «сладость и гармонию».
Можно, конечно, в поисках «правды» отмести весь «словесный бархат» — что и сделал Владимир Набоков, адепт буквализма и автор крайне неоднозначного перевода «Евгения Онегина» на английский язык. Он с безжалостной точностью перевел строчку за строчкой, пожертвовав изящностью, стилем, ясностью и даже грамотностью изложения, и произвел на свет нечитабельный, но «верный оригиналу» подстрочник. В каком-то смысле Набоков преодолел знаменитую пушкинскую непереводимость: пусть всадник и потерял сознание в прыжке, его лошадь (если верить англоязычным критикам, еще и хромая), продолжила скачку.
Если слово одного языка не покрывает слова другого, то тем менее могут покрывать друг друга комбинации слов, картины, чувства, возбуждаемые речью; соль их исчезает при переводе; остроты непереводимы.
Александр Потебня, «Эстетика и поэтика»
Далее следует непереводимая игра слов
Наконец — непревзойденная игра слов, заставляющая расписаться в собственном бессилии большинство переводчиков. Такая игра построена на экспериментах со всеми уровнями языка (семантическим, графическим, фонетическим, морфологическим) и использует омонимию, паронимию, многозначность и двусмысленность, глубоко укорененные в языке оригинала.
Читая или слушая фразу на родном языке, мы достраиваем в уме ее логическое завершение, а каламбур производит эффект как раз потому, что обманывает наши ожидания. Ни «Глубокоуважаемый Вагоноуважатый!», ни тем более «Вагоноуважаемый Глубокоуважатый!» перевести не выйдет, ведь забавно здесь не типичное для русской речи столкновение двух несовместимых смыслов в одном, казалось бы, ничего не предвещавшем обращении. Это объясняет и то, почему самой «непереводимой» считается игра слов именно «с использованием местных идиоматических выражений»: идиомы и фразеологизмы настолько закреплены в языке, что нарушение их формы усиливает эффект неожиданности, а местный колорит еще больше сужает круг тех, кто поймет шутку. По пути к иностранному читателю такой каламбур развалится и не произведет должного эффекта.

Эффект здесь — ключевое слово, именно на него и ориентируются переводчики, которые все же принимают вызов.
Вот стоят перед немецким переводчиком какие-нибудь пелевинские «гробы после вождя», бьют копытом, отказываются перепрыгивать препятствие.
Переводчик видит, что ему пришлось бы не только обыграть советское прошлое и бандитские девяностые чужой страны, но и отыскать в немецком устойчивый эквивалент «грибов после дождя». Лучшее, что здесь можно предложить — это новый всадник на новой немецкой лошади, способный вызвать у немецкого читателя тот же спектр эмоций, что и у целевой аудитории Пелевина.
Современные школы перевода сходятся во мнении, что «непереводимая» игра слов вполне переводима с функциональной точки зрения. Ведь в конце концов, пусть всадник сменит одежду, национальность или даже пол — главное, чтобы зритель на трибуне продолжал, затаив дыхание, следить за скачкой.
И всё-таки можно быть счастливым
Понятие непереводимости вместе со всем вложенным в него трагизмом оказывается по сути мыльным пузырем; в это легко убедиться, если попытаться сформулировать, что конкретно оно значит. Патетическое отрицание перевода утвердилось в эпоху, когда преклонение перед оригиналом и стремление к абсолютной верности ему (и, как следствие, мгновенное разочарование) было частью европейской культурной и даже общественно-политической повестки. Со временем идея недостижимости оригинала сменилась увлечением «непереводимыми» культурами, а затем — спокойным пониманием, что так или иначе переводится все. Вопрос в том, что понимать под переводом. Шутка, переведенная другой шуткой, — это перевод или уже нечто другое? Одним словом, либо все непереводимо, либо все переводимо — это как посмотреть. Проблема в том, что первый подход бесплоден.
Второй подход предлагает признать, что любой перевод искажает оригинал, и начать говорить о том, в какой степени он его искажает. В некоторых сферах перевод чрезвычайно эффективен, в других — вроде поэзии и игры слов — неизменно ведет к потерям.
В современном переводоведении говорят скорее об относительной переводимости и о «степенях энтропии», подразумевая, что все тексты с разной силой сопротивляются переводу. Говоря о чем-то «непереводимом», мы почти всегда говорим о неком результате, то есть об уже свершившемся переводе. Всю абсурдность этого противоречия отражает один исторический анекдот.
Мартина Хайдеггера как-то спросили: «Почему вас так интересует вопрос непереводимого?», на что он, в свою очередь, поинтересовался: «Непереводимого на какой язык?»
Именно непереводимые фрагменты языка вызывают наибольший интерес как переводчиков, так и читателей, ведь это те самые промежутки человеческого знания, на которых наши языковые и культурные установки не пересекаются. И именно они приводят к по-настоящему плодотворному диалогу.
Юрий Лотман в статье «Система с одним языком» писал, что к прогрессу ведет то самое напряжение, возникающее при переводе непереводимого: «чем труднее и неадекватнее перевод одной непересекающейся части пространства на язык другой, тем более ценным в информационном и социальном отношении становится факт этого парадоксального общения».
А что же бедняга-переводчик, в поте лица сводящий эти непересекающиеся линии? Его святой покровитель Иероним ответил бы из глубины веков, что заведомая недостижимость его профессионального идеала напоминает ему о его человечности, а вместе с тем и о свойственном человеку несовершенстве.
Иногда его спрашивали: почему же вы не предупредили, что это непереводимо? Что он мог ответить? Что его тоже не предупредили, когда он поступал в институт? Что теперь он должен поддерживать тайну как в личных, так и в общественных интересах <...>? С древнейших времен ремесленники объединялись в цеха, чтобы хранить от лохов единственный свой секрет, тот самый, мистический, чернокнижный секрет Виктории, вату в лифчике: того, за чем вы пришли, не бывает, но есть масса способов быть счастливым...
Анна Мазурова, «Транскрипт»
