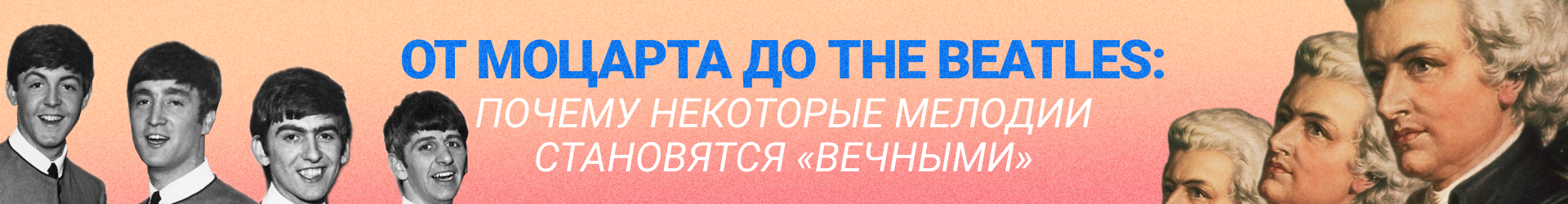Буду резать, буду бить. Зачем в театре насилие?
Убийства, издевательства, пытки, войны — вот привычные сюжеты мирового театра. Ослепленный царь Эдип и погибший Гамлет, задушенная Дездемона и утонувшая Катерина из «Грозы» — пьесы и фильмы, где кого-то убивают, можно перечислять бесконечно. Демонстрация насилия — один из самых популярных приемов в искусстве. Но зачем это нужно театру? Неужели нам правда просто интересно смотреть на страдания?
Пожалуй, в XXI веке сложно не видеть насилие каждый день. Но не потому, что его стало действительно больше, чем в прошлом столетии. Его просто чаще показывают. СМИ ежедневно транслируют нам катастрофы, рассказывают истории о жертвах войн и катаклизмов. За ними поспевает и искусство. Массовое кино, например о супергероях, регулярно обращается к сюжету апокалипсиса, когда еще немного — и мир исчезнет навсегда. Что уж говорить о видеоиграх и сериалах в жанре хоррор. Но такая тяга к насилию свойственна не только для массовой культуры. Режиссера Ларса фон Триера мы вряд ли назовем простым, однако из фильма в фильм у него кочуют истории об изнасилованиях, жестоких убийствах и унижениях. При этом далеко не всегда зрителю дается возможность в конце фильма или сериала выдохнуть и удовлетвориться тем, что зло побеждено. Часто художники просто атакуют публику тяжелыми сценами. Тогда единственная возможность прекратить это — отвернуться и выйти.
Убивать, чтобы успокоить
Драматургия к теме насилия обращается давно. Один из ее самых популярных жанров, трагедия, по умолчанию предполагает, что жизнь героев будет под угрозой, а им самим придется много страдать. Для древнегреческого философа Аристотеля лучшим произведением в этом жанре был «Царь Эдип» Софокла, пьеса о том, как царь навлек на свою страну несчастья из-за того, что, сам того не зная, убил своего отца и завел детей со своей матерью. Поняв, что он натворил, Эдип ослепляет себя. Аристотель в работе «Поэтика» назвал трагедию «воспроизведением действия серьезного и законченного, имеющего определенный объем, речью украшенного, различными ее видами отдельно в разных частях, — воспроизведением действием, а не рассказом, совершающее посредством сострадания и страха очищения подобных чувств».
Вот, кажется, и разгадка: искусство, в частности театр, так часто обращается к насилию, потому что оно позволяет вызвать у зрителя сочувствие и очищает его, то есть производит катарсис.
Правда, не все так просто. Историк Геродот упоминает следующий эпизод, имевший место в Афинах:
«Так, между прочим, Фриних сочинил драму „Взятие Милета“, и когда он поставил ее на сцене, то все зрители залились слезами. Фриних же был присужден к уплате штрафа в 1000 драхм за то, что напомнил о несчастьях близких людей. Кроме того, афиняне постановили, чтобы никто не смел возобновлять постановку этой драмы».
Постановка была посвящена поражению греков в войне с персами, итогом которого стали массовые убийства в городе Милете. То есть далеко не любая сцена насилия считалась полезной и допустимой на сцене древнегреческого театра. Если герой погибает из-за своего проступка или совершая подвиг — это одно дело, но массовые убийства без особых причин — совершенно другое. Насилие допустимо, когда оно поддается осмыслению, иначе оно вселяет только ужас. При этом Аристотель подчеркивал важность «украшенности» поэтической речи, которая выражается в гармонии, цельности и возвышенности. Можно предположить, что именно такая «техника» написания текстов и должна защитить от невыразимого ужаса.
Примечательно, что логика художественного письма в какой-то момент выходит за рамки искусства. Термин «декорум», изначально обозначавший у античных теоретиков как раз «украшенность» и правила хорошего тона в изображении событий, во времена барокко переходит в повседневную жизнь. Декорум теперь не только определяет, что можно показывать на сцене, а что — не стоит, но и правила поведения в обществе. Иначе говоря, становится способом регулирования человеческих отношений. Это важно отметить, так как это помогает лучше проиллюстрировать, как потенциал человеческих эмоций — и искусства, выражающего их — ограничивался. Между насилием, вселяющим ужас, и разрешенным страхом такая же разница, как между бойней и остроумным спором на балу.

Убивать в XX веке
Однако со временем искусство начинает противиться такой логике.
В XIX веке предметом пристального интереса романтизма стало демоническое, жестокое по природе и непознаваемое насилие, однако это искусство все еще оставалось в поле морали. Например, романтический герой мог быть жесток, потому что его отвергло общество.
Но наиболее ярко конфликт с установкой на «конструктивное» изображение насилия разворачивается в XX веке. Философ Артемий Магун в книге «Искус небытия» пишет:
«Разъятость тел, ранее просто служившая аналитическому видению, в 1920–1930-х годах уже рассматривается как агрессия и насилие — как у экспрессионистов вроде Дикса, или у того же самого Пикассо… А после Второй мировой войны выявление негативных сил, лежащих в основе практики искусства становится эксплицитным… Искусство становится тогда своеобразным апокалиптическим видением, протоколом уничтожения мира».
Нам в этой характеристике важно выделить два момента. Первый, формальный, заключается в том, что в XX веке эмоции стали выражаться в искусстве не с помощью аналитической рефлексии, конструктивно, но через техники шока и агрессии, от которых прежде художники старались уклониться. Второй, содержательный: Магун, называя видение нового искусства «апокалиптическим», обнаруживает в таком подходе идею очищения. Ведь и апокалипсис можно перевести как «снятие покровов» или «новое знание». Предлагая зрителю сильные эмоции, нападая на него, художник может показать в своем произведении события и вещи такими, какие они есть. Искусство больше не раскрывает с помощью насилия социальные или психологические проблемы, не пытается понять его причины, а просто демонстрирует его и тем самым дает возможность зрителю ощутить его в чистом виде. Возможно, катарсис через агрессию и жестокость пришел на смену упорядоченному и конструктивному катарсису из-за общего изменения мировосприятия. В Античности окружающий человека мир считался прочным и гармоничным: законы природы, движения звезд и планет прекрасны и разумны, а потому необходимо просто воссоздать эту стройность в обществе. В XX же веке сам социальный порядок стал причиной катастроф: войны, революции, индустриализация, изменившая повседневный ландшафт. Упорядоченность превратилась из гавани спокойствия в тюрьму, из которой искусство ищет выход.
Кажется, что мы ушли чересчур далеко. Но на самом деле мы приблизились к тому, чтобы понять, зачем же театр так часто обращается к насилию. В каком-то смысле он так выполняет ту же задачу, что и прежде, когда он еще ограничивал себя «декорумом» — пытается достигнуть «очищения». Теперь посмотрим, как это реализуется в конкретных художественных решениях.
Убивать, чтобы шокировать
Театральные практики, основанные на насилии, в 1930-е годы активно пропагандировал Антонен Арто, назвавший свой метод «театром жестокости». Арто объяснял в статье «Театр и жестокость»: привычный психологический театр приучил зрителя к тому, что спектакль — просто досуг, в то время как подлинное искусство должно вдохнуть в людей «пылающий магнетизм образов и в конечном счете действовать как некая терапия души». Примечательно, что и Арто, и античные теоретики говорят о театральном зрелище как о лекарстве.
Антонен Арто считал, что словесный, психологический театр работает с разумом зрителя, следовательно, дает ему возможность не вовлекаться в действие, а лишь размышлять о нем. Чтобы этого избежать, на сцене необходимо демонстрировать насилие, способное шокировать публику настолько, что она даже не будет пробовать рефлексировать, она сможет лишь переживать происходящее и получать некий опыт.
Стоит подчеркнуть, что насилие — не единственный метод Арто. Он также отказывался считать основной спектакля текст пьесы, психологический подход к роли, реализм и декорации.
Скорее, он настаивал на форме ритуала, в котором актеры не сколько исполнители, сколько служители культа. Это можно увидеть и по планам постановок, объявленных в первом манифесте «театра жестокости»: спектакль о взятии Иерусалима по Библии и современной историографии, инсценировка новеллы Маркиза де Сада «Эжени де Францваль» и пьесы Шекспира. Вот как Арто описывал свое видение первой постановки из списка:
«Мы возьмем ее вместе с красным цветом крови, пролившейся здесь, вместе с ощущением самозабвения и паники в душах, которое должно просматриваться во всем, вплоть до освещения».

Убивать, чтобы критиковать зрителя
Работы польского режиссера второй половины XX века Ежи Гротовского — второй пример использования насилия как художественной практики. Если Антонену Арто жестокость требовалась для эффекта, который должен был стать «терапией души», то у Гротовского агрессия и атака зрителя стали основной целью. Одна из наиболее сложных тем в истории Польши — антисемитизм, особенно во время Второй мировой войны. Долгое время после 1945 года эта тема замалчивалась и перевиралась. О том, что многие поляки были не просто молчаливыми свидетелями геноцида евреев, но и его участниками, говорить было не принято. По напряженности эту тему можно сравнивать с дискуссией о сталинских репрессиях в России.
В 1964 году Ежи Гротовский поставил спектакль «Этюд о Гамлете». Сам текст был написан известным, практически канонизированным писателем Станиславом Выспянским в 1905 году. Уже это предполагало трепетное отношение публики к режиссерской интерпретации. Но Гротовский не пошел на поводу у зрителей. Он поместил действие в непривычные пространства: кабак, баню и поле битвы. Цель была проста: не просто адаптировать Гамлета к польским реалиям, но максимально снизить статус персонажей. Но изменения этим не исчерпались. Гамлет в спектакле Гротовского стал евреем, а жители Эльсинора — польским крестьянством. Режиссер поставил антисемитские предрассудки в конфликт с героическим привычным сюжетом. Как писал театровед Гжегож Низёлек, еврей в польской культуре был феминной фигурой. Считалось, что он не способен к решениям и действию. Низёлек в книге «Польский театр Катастрофы» дал такую характеристику:
«Народная религиозность в спектаклях Гротовского пускала в ход образы насилия и унижения; она была наделена инстинктивной энергией садистских актов преследования и мазохистского подчинения».
Надо ли говорить, что публике нелегко далось понимание таких причин бездействия Гамлета. Эудженио Барба, ассистент Гротовского, говорит, что этот спектакль стал «пощечиной, предназначенной как врагам, так и друзьям». Неудивительно, ведь сцена спектакля, где поляки в форме военного сопротивления времен Второй Мировой войны, плюют в лицо Гамлету-еврею, не просто неприятна — она ставила под сомнение каноническое восприятие польской истории XX века.
Насилие над зрителем в работе Гротовского не исчерпывалось демонстрацией жестокости, от которой невозможно закрыться. Уникальность этого режиссера в другом: он не давал зрителям возможности соотнести себя с жертвой. Ведь нам всегда проще жалеть кого-то издалека и думать, что мы бы помогли ему, будь такая возможность. Ежи Гротовский настаивает на том, чтобы зритель занял позицию агрессора, используя предрассудки и привычки публики. Очевидно, что поляк будет себя соотносить не с Гамлетом-евреем, а с солдатами, которые существуют в его сознании только как защитники родины. Таким образом, театр становится местом критики и суда не над героями, а над теми, кто пришел в зал.
Убивать, чтобы научить переживать убийство
Получается, что театр может использовать насилие для создания уникального шокового состояния (как у Арто) или для особой критики (как у Гротовского). Но неужели жестокость в театре может быть только изображена? Может ли насилие оказаться вообще основной спектакля? Да, и это мы увидим из следующего примера.
Спектакль «Груз 300», созданный Сашей Старостью, Катрин Ненашевой, Полиной Андреевой, Олесей Гудковой, Артемом Материнским и Стасом Горевым стал одним из самых обсуждаемых в театральном сезоне 2018–2019 годов. Он был посвящен проблеме пыток в тюрьмах и делился на три части: в первом рассказывалась история Руслана Сулейманова, бывшего заключенного, во втором зрителям предложили поучаствовать в игре «Шавка», а в третьей участников пригласили к обсуждению происходящего. Вторая часть вызвала дискуссии о допустимости таких постановок. Зрители писали свои имена на бумажках, а потом по жребию получали роль: нужно было либо командовать, либо подчиняться. Вот как критикесса Ильмира Болотян описывала этот опыт:
«Сначала я каталась у мужчины на спине, потом он носил меня на руках, на плечах — и пел при этом. И не потому, что хотел этого, а оттого, что я приказала. Потом меня заставляли выпить алкоголь, а когда я отказалась, мне пришлось убегать от этого человека и драться с ним».
Замысел создателей спектакля был в том, чтобы вытащить на всеобщее обозрение тему пыток. Не просто рассказать истории, которые забудутся через несколько дней, но воссоздать контролируемый процесс травматизации. Олеся Гудкова, одна из создательниц спектакля, рассказывала:
«„Груз 300“ в этом смысле отчаянно честный проект. Мы не только рассказываем людям историю, но и предлагаем нашим зрителям сконструировать свою в рамках игры».
Мы не будем здесь обсуждать этический аспект постановки.
Важнее другое: прямое насилие в рамках театрального спектакля помещает зрителя одновременно в два положения. С одной стороны, он полноправный участник, равный актерам, а если ему выпала роль командира, то он еще и облечен властью.
С другой — он все равно подчинен правилам спектакля, которые трудно нарушить. «Это ведь не по-настоящему», — может подумать. человек, купивший билет. Зритель — одновременно и жертва театра, и его хозяин.
Нет ничего удивительного в том, что сцены насилия так часто используются в искусстве, особенно в массовом. Это ведь самый простой способ вызвать сильные эмоции, обратиться к эмпатии зрителя. Однако потенциал насилия в театре гораздо больше. Жестокость — это способ вывести аудиторию из состояния равновесия. Кроме того, она может ставить под вопрос социальные порядки, восприятие собственного прошлого и своей личности. В обычной жизни насилие справедливо вызывает отторжение, но в искусстве оно, наоборот, приковывает внимание. Театр способен создавать особое пространство, где люди могут рискнуть своим спокойствием ради нового опыта. Правда, это не значит, что его реальность в самом деле безопасна. Театр может травмировать не хуже жизни. Неслучайно на спектакле «Груз 300» дежурили психологи, зрители постановок Ежи Гротовского уходили в состоянии шока, а Антонен Арто сошел с ума.