«Опыты и намерения» калмыцкой степи и «Сверкающая усталость» Теплого Стана: новые и старые игры в русскоязычной поэзии
Читая поэзию Дорджи Джальджиреева, будто бы растворяешься в степном эпосе, на который зачем-то наложена сетка человеческих координат. Или это всего лишь колониальный взгляд на калмыцкого поэта? А как услышать эхо античных богов в сетке улиц московского юго-запада? Разбираемся в современной русскоязычной поэзии вместе с Кириллом Корчагиным.
Новейшая русская поэзия бурно развивалась в последние двадцать лет. Но вот незадача: это движение осталось почти незаметным — для всех, кроме тех, кто посвятил жизнь литературе. Ожесточенные споры в литературных кругах оказались «игрой с нулевой суммой», а почти все их участники остались при своем, разве что изрядно утомились. В 2010-е годы — как в 1910-е — снова открылось, что поэзия может быть политической и не переставать быть поэзией, за прошедшие десять лет эта идея превратилась в противоположную: поэзия может быть только политической.
Если политика — это вся наша совместная жизнь, то спорить с этим трудно. Но зачем нужна поэзия, если есть политика? В конце концов, если есть вещи, которые действуют куда более сильно? Рэп, кино, музыка, порно, психотерапия. Кажется, что поэзия делает всё то же самое, только хуже. Как ручной труд против труда машин.
Что же способна дать поэзия? Особенно сейчас, когда громче всего слышны голоса, взывающие к отмщению? Пожалуй, ничего. Но робко можно надеяться, что она, среди прочего, еще и фантазия о будущем, о том, как весенняя трава прорастает сквозь руины, или, напротив, о том, как стройные ряды бетонных строений сносит тайфун. В этих обзорах я хотел бы писать о той поэзии, которая волнует воображение. Она может казаться сложной или простой, привычной или непривычной, но главное, что в ней прорастает зерно будущего. Я буду писать в основном о поэтических книгах или подборках стихов не так подробно и обстоятельно, как они того заслуживают, но так, чтобы связать их с живым опытом, с тем ни на что не похожим чувством удивления, когда кажется, будто видишь мир впервые.

Я начну с двух книг, которые стоят на противоположных концах поэтического мира. Первая — среди поэтов, которые объясняют себя в логике политического действия, для которых поэзия — это борьба, левый уклон. Вторая — как будто из лагеря тех, кто уверен, что сущность поэзии, ее глубинный смысл остается неизменным на протяжении столетий. В общем-то, здесь и проходит граница: убежденность в том, что поэтические смыслы возникают из воздуха времени, а у каждого времени свой воздух («слушайте музыку революции»), и убежденность в том, что в поэзии могут меняться только частности, а ядро остается неизменным, несмотря на смену мод. Не уверен, что между этими двумя позициями такая уж большая разница, но, кажется, сейчас они снова хотят противостоять друг другу, сражаться.
В последнее время много говорится о деколонизации русской культуры, идет борьба с гигантами прошлого, Толстым и Достоевским, в то время как голоса с обширных территорий современной России слышны нечасто.
Хотя поэзия второй половины ХХ века уже отчасти деколонизировала себя — в мистическом духовидении чуваша Геннадия Айги, экзистенциальной лирике бурята Намжила Нимбуева, литературном кинематографе узбека Шамшада Абдуллаева и этот список можно продолжать.
Все они находятся как будто на периферии общественного внимания, но очевидно, что должны быть в центре. Как в центре на предыдущем витке оказались Осип Мандельштам и Борис Пастернак — поэты, представлявшие другое меньшинство бывшей империи.
Дебютная книга Дорджи Джальджиреева, поэта из столицы Калмыкии Элисты, под названием «Опыты и намерения» в этом смысле производит двойственное впечатление: сам метод письма, принесший поэту премию Драгомощенко, как будто сопротивляется политизации — слова и конструкции сворачиваются здесь в спирали, ткутся в масштабное полотно, оценить которое в целом пока трудно: слишком мало фрагментов у этого пазла. Они напоминают о том, что где-то в калмыцких степях Хлебников пробовал звуки на прочность: «сны обитают на берегах / и прежде чем коснуться воды / убедись что тишина почти разгадана совершенством выдоха» — в этих строках Джальджиреева слышится хлебниковское дыхание, его ритм, хотя много здесь и другого — всего того пути, что прошла русская поэзия в попытке учесть опыт французских и американских поэтов.
Но также здесь сокрыта мысль, что калмыцкие степи — не просто экзотическая планета, как Чувашия Айги, но и одна из родин мирового авангарда, родина Хлебникова, хотя родился он ближе к Волгограду, на севере республики. Чувство глобального у Джальджиреева присутствует в полной мере. Но присутствует и обратное, локальное чувство: Калмыкия — остров, монгольский народ, затерянный в южной степи, живущий уединенно. И это острое ощущение локальности, выраженное не в элементах пейзажа (в этом смысле Джальджиреев совсем не Айги, он куда реже вспоминает о пейзаже), а в специфическом чувстве ритма, «раскатистости» звука, которая вроде бы даже не вяжется с подчеркнуто перегруженным синтаксисом, с тем, что концы фраз проглатываются началом следующих.

Но ведь это странная операция — переносить на изощренные, порой намеренно усложненные тексты особенности «национального характера», в целом говорить об авторе как о правомочном представителе некой этнокультурной общности, хотя не вполне ясно, что за этим стоит — может быть, «буддизм», о котором пишут критики Джальджиреева? Но рассуждать в такой логике — это ведь почти то же самое, что дискутировать о православии у Есенина.
В то же время деколониальный взгляд сам по себе толкает в объятия экзотики под видом борьбы с нею. Трудно удержать две половины — рывок к глобальности и внимание к локальности, общее и местное, но это соблазн и для самого автора: представлять себя поэтом среди других поэтов, пусть заведомо «сложным», обращающимся к довольно малочисленной традиции, или же вождем деколониального поворота. Столичной штучкой (как Драгомощенко) или авангардистом-самородком (как Айги).
У Джальджиреева есть и первое, и второе, но первого как будто больше. Его стихи лишены места, произнесены из некой внешней по отношению к миру позиции, стихи кочевника, но в то же время это и пронзительная лирика, довольно яростная — как будто заново прощупывающая, какие формы речи еще возможны: «исповедь земли / которая также нуждается / в исповедях тех кто по ней ходит». Его поэзия иногда чрезмерно увлекается красотой фразы, многозначительностью, слишком глубоко погружается во фрактальные сплетающиеся структуры, но всё же обычно проносит лирическое зерно сквозь все превратности текста. Культурный контекст дан здесь дозированно: то смутным воспоминанием о сталинской депортации калмыков (одно из программных стихотворений, но, может быть, именно в силу программности не самое лучшее), то действительно буддийскими мотивами, ведь калмыки и правда самые западные буддисты. Но при этом не покидает ощущение, что такие культурные экскурсы — во многом присяга определенной модели литературы, которая требует (чрезмерно) ответственного отношения к собственному слову и стоящей за ним идеологии, в том числе идеологии культурной.
Но послушайте, как автор читает — так исполняют эпос: слух с легкостью скользит по бесконечным строкам, а их ритм, пространный и тянущий, погружает в медитативное состояние. Для себя и друзей поэт иногда записывает импровизированный рэп, где тоже можно узнать эти ритмы, просторные, как мало у кого из новых поэтов. Может быть, и в стихах этой книги заметны следы импровизации — в словах как будто случайных по значению, но обретающих смысл в ритмической цепи, в особой скачкообразной логике, которой движется текст, всегда упирающийся в разрыв, в невыносимую любовь, в разлуку.
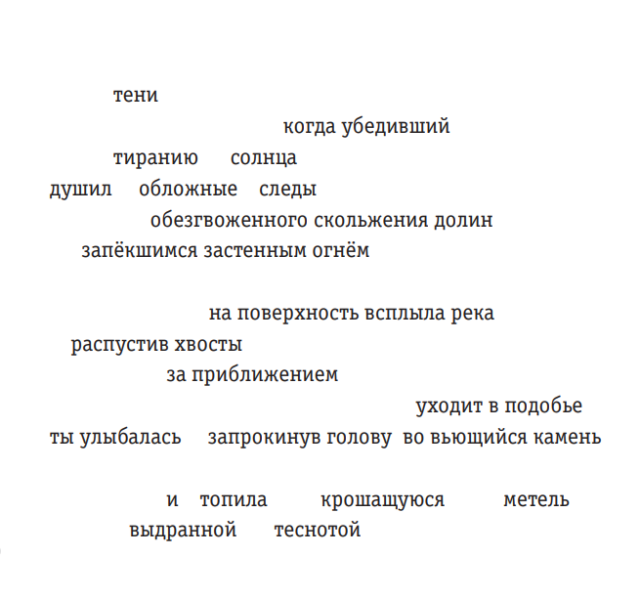
Вторая книга, о которой я хотел бы здесь сказать, во всем не похожа на первую. За двумя исключениями — она тоже дебютная и в ней тоже много пронзительной тоски: «Сверкающая усталость» Натальи Явлюхиной. Небольшая и странная книга — будто похожая на то, как обычно представляют себе более или менее традиционную русскую поэзию, но похожая не слишком. Здесь почти всё держится на ритме и рифме, которые словно постоянно спотыкаются на словах то ли придуманных, то ли всегда существовавших, как будто поиск формы — задача, всегда остающаяся нерешенной. Кажется, обращаться к тем строительным блокам, из которых состоит традиционный стих, стоит только в том случае, если заведомо не знаешь, что из них может собраться. Перефразируя Бориса Слуцкого, зачем писать стихотворение, если знать заранее, чем оно кончится. Стихи Явлюхиной — это искусство неожиданных развилок: ожидание нарушается, стих сворачивает не в ту сторону: «в нашем постмортальном Теплом Стане, / за универсамом на парковке / встретитесь — он тоже пуст и свят, / в прозелень не-музыки поставлен, / но его как будто что-то гложет…».
За любыми стихами стоит своя пространственная структура. У Джальджиреева это были просторы, степи, на которые словно бы наложена сетка придуманных человеком словесных координат. У Явлюхиной — сетка московских улиц и районов, клин, врезающийся в центр Ленинским проспектом: «кто не стал машинистом станет проводником / я отпущу то что держит меня за ресницу / на оранжевой ветке метро и на Орджоникидзе / где выступала „Гражданская оборона“ / и наступавшее лето мне было знакомо / по тополям…». Эта книга для будущих переводчиков будет головной болью, как все стихи об улицах и районах. То, что так дорого для поэта, почти всегда теряется в переводе, оставляя гадать, что же такого в этой улице Орджоникидзе (Orjonikidze) или в Теплом Стане (Tyoplii Stan), что такого в сен-жерменском предместье. Топонимы здесь почти в каждом стихотворении, и каждый раз они выбраны не случайно — это некое скольжение по сетке улиц юго-запада Москвы, где простор оборачивается клаустрофобией, а ширина проспектов — попыткой к бегству.
Я тоже живу на юго-западе и уже в студенчестве, в переполненном автобусе на Ленинском проспекте, думал о том, как можно поймать топологию этого пространства в стихах — перепады высот, геометрический простор, клинья лесов, врезающиеся в пентаграмму Академии Генштаба.
Очевидно, дело не только в именах улиц, но и в особом ритме пространства. Явлюхина отталкивается от ритмов привычных, почти классических и, конечно, рифмует, но в то же время решительно вторгается в архитектонику размеров, «перепрошивает» их структуру так, что она начинает звучать «по-юго-западному», в унисон с ритмом улиц в окрестностях Ленинского проспекта.
Глобальное, таким образом, обнаруживается здесь в локальном, подчеркнуто бытовом и местном: так на язык теплостанских дворов переводятся античные мифы, хотя этим приемом, популярным в модернистских литературах, автор всё-таки не злоупотребляет, так что стихи не превращаются в очередной извод московского магического реализма (какими были, например, ранние стихи Андрей Родионова). Здесь есть и попытка создания новых мифов. Так, оказывается, что Волоколамск и Наро-Фоминск — не просто скучные подмосковные города: в их стершихся от частого употребления названиях слышен странный звон чего-то сокрытого:
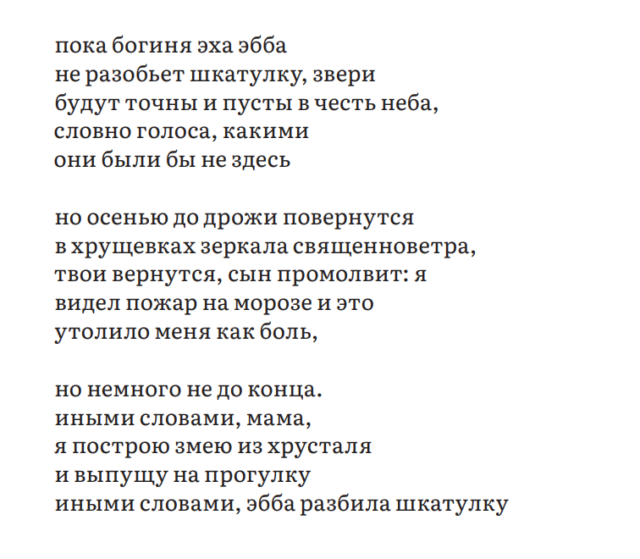
Кажется, настроение стихов Явлюхиной лучше всего передать двумя киноцитатами. Вот первая. Герой старинного фильма Висконти «Леопард», князь ди Салина, в ответ на вопрос, зачем на Сицилию пришли гарибальдийцы, сторонники революционного объединения Италии, отвечал сам себе: «Учить нас хорошим манерам. Но у них ничего не выйдет, потому что мы боги». Вот вторая. В «Мальпертюи» Гарри Кюммеля молодой человек приезжает к подруге в старинное имение, где живет вся ее семья, а управляет имением грузный отец, который уже не встает с постели. Но проходя коридорами и выходя в сад, герой вдруг с ужасом понимает, что вся эта семья — дряхлые античные боги в поисках свежей крови, а он должен стать их жертвой. Сходное ощущение пронизывает эту книгу: мифологические сюжеты из «Легенд и мифов Древней Греции» Куна задают масштаб для трудов и дней затерянного на теплостанских улицах поэта.
Аналогию этому можно уловить в стихах Григория Дашевского рубежа 1980–1990-х годов, когда он проецировал мифологическую античность на современность ради своего рода культурного эксперимента — что будет, если человек переходного периода со всеми его заботами вдруг обнаружит себя в реальности богов и героев, и что, если его ежедневные усилия продолжать жить стоят в одном ряду с подвигами древних героев.
Дашевский по разным причинам оставил эту идею, а Явлюхина ее продолжает — даже в тех случаях, когда герои не появляются в тексте напрямую, эпическое напряжение говорит само за себя: «с дождливым гравием во рту / вдруг вспомнят: это снилось, / но вспомнить не могли, лишь узнавать / других забывших правоту, / ради которой всё, что есть, / на поезд опоздало, как погибших / под утро в тополиной тьме, / воскреснувших к утру».
Книги Явлюхиной и Джальджиреева действительно очень разные, и, наверное, не стоит их сближать специальным риторическим усилием. Однако есть и то, что объединяет их авторов, — нежелание (более или менее артикулированное) писать «как надо» и принято в том или ином сообществе. Это заметно и у Джальджиреева, всё-таки отдаляющегося и от деколониальной повестки, и от самоценной переусложненности имени премии Драгомощенко, и у Явлюхиной, которая оказывается слишком объемной для той неоконсервативной рамки, в которую ее пытаются поместить. Но тем не менее сейчас эти два поэта стоят на двух противоположных полюсах — единство и диалог между которыми кажутся почти невозможными.
