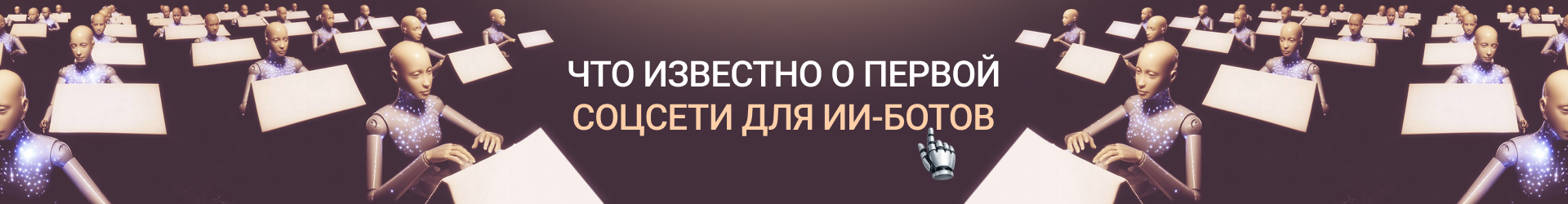«Ждем предстоящий релиз совместно с Хаски»: интервью с худруком фольклорного ансамбля «Толока»
Ансамбль «Толока» — независимый фольклорный коллектив, которому удается собирать солд-ауты в больших залах самых крупных городов России. Новый тур начнется 22 мая — аутентичная крестьянская музыка прозвучит в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Казани. Об экспедициях, коллаборациях с экспериментальными музыкантами и новые проектах — в нашем интервью с художественным руководителем ансамбля Екатериной Ростовцевой

Ансамбль появился в конце 2022 года в Петербурге: продюсер Екатерина Ростовцева предложила будущему музыкальному руководителю «Толоки» Елизавете Аньшиной создать независимый ансамбль. Фольклорист доверилась и ушла с работы, чтобы выработать новый способ подачи русского фольклора.
С тех пор команда основательно расширилась, ведь к каждому концерту ансамбль готовит спецпроект — экспедицию. В этом и заключается новаторство: с каждым выступлением «Толока» делает культуру родного региона еще ближе для слушателей.
«Толока» выступает только в повседневной одежде. С чем это связано?
Мы ничего не имеем против костюмов, очень их любим — я даже думаю посвятить им отдельный проект. Экспедиции кардинально изменили наш подход: странно выступать в деревенских ДК в костюмах — есть риск повторения колониальных сюжетов, будто ты, условно, белый человек, который приехал в дорогущих костюмах и показываешь что-то бабушкам. Второй риск — в зоне эстетики. Одно дело, когда ты выходишь в этом костюме на сцену зала «Зарядье», там супер свет — все театрализовано максимально, выглядит очень стильно и классно. Но в тех же ДК за тобой висят какие-то фиолетовые занавески, надувные шары, цветы… В таком случае в костюмах мы выглядим нелепо.

В 99% настоящие народные исполнители носят обычную повседневную одежду. А мы, напоминаю, транслируем экспедиционный опыт. Еще мы часто сталкиваемся со стереотипом, что для исполнения русского фольклора нужен специальный наряд. Но вы ведь читаете сказки народные в повседневной одежде? Фольклор — подвижный и прикладной в жизни.
Была ли в истории «Толоки» поворотная точка?
После летней экспедиции в Липецкую и Тамбовскую области всё стало понятно. Мы какую-то народную любовь почувствовали.
В экспедициях мы не делаем научных открытий, но показываем далеким от фольклора, как он живет и работает. Ведь люди, действительно, не знают, что настоящий фольклор не только на сценах и в рамках отдельных коллективов. Сейчас мы встречаемся уже с неполным составом — один-два поющих человека, хотя в 1980-е можно было записать и 15 человек.

Для местных это не просто песни: они вспоминают односельчан в молодости, важные моменты жизни. Для каждого региона нужен проводник, это не туристические экскурсии — ты оказываешься внутри чей-то семьи, погружаешься в ее жизнь и историю.
У нас очень большая страна, есть много локальных различий, которые не всегда очевидны на первый взгляд. Мы назвали свой проект «Экспедиция домой», потому что ездили по родным местам участников коллектива. В Тамбовской области я могла рассказать о домах моих родственников — это область моей бабушки. Да и местные меня иначе воспринимают, потому что я оттуда. А потом мы ехали в Липецкую область, это миссия нашего вокального руководителя Лизы.
Еще мы делаем концерт, как предстоящий в Москве, — на него мы пригласили плёховских певуний из Курской области. В случае с ними мы понимаем, что если мы сейчас не привезем их на концерт, такой возможности может не быть уже через месяц — людям по 85 лет. Этим хочется делиться со всеми.
Невероятно, что певуньи согласились приехать на ваш концерт. Представляю, какими трудами вам это далось.
Мы до сих пор трудимся! Они каждую неделю передумывают, это очень большой риск. В Петербург мы везем частушечницу с липецкого рынка, там чуть попроще. Мы договариваемся с людьми на добром слове, но она может в любой момент сказать, что у нее плохое настроение или самочувствие и она передумала. Мы до последнего дня надеемся, что все будет хорошо и они доедут.
Вы родом из Крыма, не думали туда съездить в экспедицию?
Очень много думали об этом, но есть несколько сложностей. В Крыму напряжёнка с фольклором, потому что у нас очень много приезжих. Моя семья — одна из первых переселенцев в Крым, село Мысовое (Казантип). Я там проводила самостоятельную экспедицию у двоюродной бабушки, которая еще что-то помнила, но два года назад она скончалась.
В Крыму еще осталась Лукерья Андреевна Кошелева, легендарная певунья из села Линово.
Я даже была на ее столетии в прошлом декабре! Мне доверили привезти подарок от более чем ста человек.
С ума сойти!

Да, нам даже удалось вместе спеть, но это, конечно, целая история.
Вы собирались выпускать фильм — о чем он будет?
Оказалось, что сняли очень много, одно только интервью 10 часов получилось. Первый фильм будет про экспедиции, о нас, как мы связаны с фольклором, а также об аутентичных носителях традиции — и это далеко не всегда бабушки.
Есть ли у вас любимый песенный регион?
Так исторически сложилось, что мы все люди южные, и в целом, наш ансамбль более органично звучит в южной традиции. Конечно, мы исполняем песни разных традиций, исследуем, расшифровываем, учим. И все же мы будто генетически связаны с песнями. Допустим, у Лизы из Липецка липецко-белгородские корни. Когда она поет эту музыку, она чувствует, как у нее «кровь кипит». С остальными то же самое.
Недавно у вас был танцевальный спектакль «Под землей». Для меня это очередное доказательство, что фольклор абсолютно органичен в современном искусстве. Как вообще зародился этот проект?
В русском фольклоре много слепых зон. Например, мужской фольклор, ломания. Я предложила сделать высказывание о мужчинах, ведь в 90% случаев фольклор представлен женской традицией. Мы с хореографом Ольгой Цветковой провели целое исследование.

В начале спектакля ты не понимаешь, что происходит, а потом ты попадаешь «под землю»: жесткое и маскулинное настроение парковки, где танцуют настоящие мужики. Это современное высказывание с очень традиционным духом в хорошем смысле.
Как в документальных фильмах о деревне: какая-то неотесанность, без городской выхолощенности, где стоят благостные улыбающиеся парни. Когда смотришь старинные фотографии мужиков, у них лица — ну прям кровь с молоком, как топором рубленные. Ты понимаешь, что они совсем не такие, какими их представляют нынешние горожане.
Кстати, вам же на днях писал Saluki. В его самой известной песне как раз звучат плёховские бабушки, которых вы повезете на концерт в Москву!
Да, этот трек популярен именно благодаря певуньям. Он очень хочет с нами поработать, оказывается, он наш подписчик! Надеемся на сотрудничество, а пока ждем предстоящий релиз совместно с Хаски.
Недавно у нас был фит с Сюзанной Варниной (Каменской) — на концерте были молодые ребята 18-20 лет, они подходили к нам и спрашивали, на каком языке мы поем, представляете! Они были так заинтересованы и поражены, что это русские песни. Я считаю, что это победа, ведь впоследствии они могут углубиться в тему.

Нынешнее пятилетие можно назвать фольклорной революцией. Аутентичный фольклор зазвучал на огромные аудитории, его активно смешивают с электронными жанрами и contemporary танцем. Но в сфере довольно много консервативных специалистов, часто ли вы сталкиваетесь с критикой?
Ага, иногда нам говорят, что мы порочим лицо фольклора и вводим людей в заблуждение. Но мы спокойно к этому относимся, так как люди выросли в другом поколении. Все забывают про советские эксперименты — почему им можно было, а сейчас нельзя? Для нас коллаборации — возможность рассказать большему количеству людей о фольклоре, но это не самоцель. Но мы бы не хотели строить всю программу из экспериментальных треков.

Мы кайфуем именно от аутентичного исполнения, но популяризируем его в том числе через коллаборации с представителями других жанров. Конечно, специалистов в нашей области формируют учебные заведения и другие небезызвестные места, где потом все работают.
Мы стремимся наладить с ними диалог: если у нас цель — существовать не три года, а, допустим, 30, то нам нужны новые кадры. Нам нужно доверительное сотрудничество с консерваториями. Преподаватели хотят, чтобы их студенты устроились в достойные места — многие понимают, что «Толока» — отличное место для выпускников.
Вы писали в соцсетях о планах запустить образовательный проект. Это как-то связано с тем, о чем вы сейчас говорили?
Отчасти связано. Мы только что запустились и проводим занятия в студии: это уроки пения для любителей и совсем новичков, есть несколько групп. Для нас это расширение нашего сообщества людей и реальное углубление в тему благодаря нашей работе: кто-то услышал наши песни, заинтересовался, захотел спеть сам и пришел к нам.
Есть ли у Толоки задача создать сообщество любителей фольклора?
Я смотрю на это скорее с продюсерской точки зрения. Мы бы хотели создать вокруг себя экосистему, где на вершине — ансамбль с лучшими представителями, а вокруг — наши люди, которые болеют за нас и русскую музыку.
Ваши корешки.
Да, это наши корешки. Чем больше людей, тем лучше для ансамбля и фольклора в целом. Но пока у нас не стоит такой цели, наша основная деятельность — артистическая. Сообщество формируется само собой неизбежно. Наши слушатели даже присылают нам огромные коробки с пластинками, на которых записан фольклор. Там и духовные песни XVIII века, и консерваторские записи…

Какие вообще есть вызовы в продюсировании фольклорного проекта?
Их много. Главный вызов — экономический: будучи независимым, ты всегда в поиске ресурсов, и это необязательно деньги. Ты берешь на себя эту ответственность. Второй вызов — команда. В России нет модели, как подобные ансамбли должны работать — мы все проходим на собственном опыте. Например, нет условий или понимания как записывать русский фольклор, пока мы не пришли к идеальной формуле — это тоже путь. Как с одеждой, репрезентацией, записями, рабочим процессом — мы должны сами это придумать.

Мне кажется, у вас отлично получается, ведь в проект вложено много любви. За что вы больше всего любите Толоку?
За талант. Наша команда — лучшая в своем деле, я постоянно ими восхищаюсь. Например, когда Ярослав запевает, я поражаюсь — ну, как такое может быть? Помимо профессионализма, в них много одаренности, и для нас это не просто работа, а образ жизни — это наполняет нас всех энергией. Все видят, что мы любим свое дело и не занимаемся им из-под палки — из-за этого получается очень честный и достойный проект.