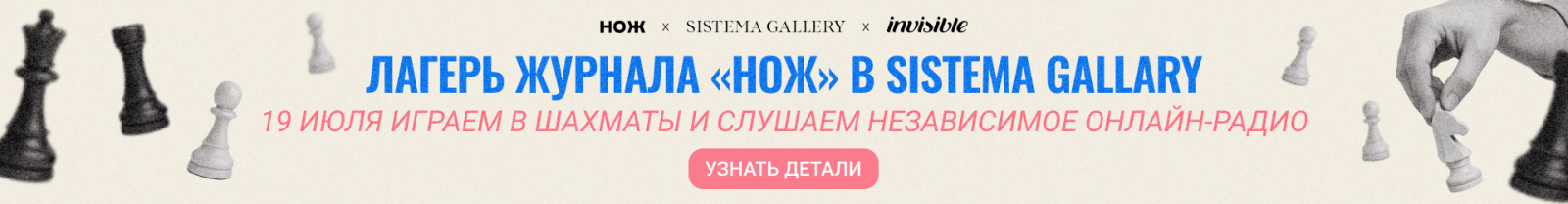Игра в бисер. Заметки об искусстве комментирования
Сегодня обыватель под словом «комментарий» понимает какую-нибудь глупость, написанную в социальных сетях, однако такое значение оно получило лишь недавно. На протяжении большей части истории человечества комментарий был благородным жанром и высоким искусством. О том, что должен представлять собой жанр комментария сегодня, размышляет филолог Алексей Любжин.
I. Предварительные замечания, или Открытый всем ветрам
Жанр комментария — очень древний, в европейской традиции идущий еще от античных схолиев (греческое σχόλιον восходит к σχολή и отражает то, что предназначается для школьных занятий, а латинский commentarius — первоначально «заметки», «записки») — в современной филологии является одним из самых неблагодарных. Если подходить к нему серьезно, то он будет очень трудоемок; решение сложных комментаторских вопросов не компенсируется никаким гонораром. Кроме того, от него мало наукометрической пользы: здесь на первом месте идут статьи, потом книги; переводы и комментарии положение исследователя не улучшат. К слову сказать, множество статей, с которыми приходилось знакомиться автору этих строк, потянули бы на несколько строчек комментария: в том виде, в каком они выходят в свет, они чудовищно раздуты сравнительно со своим реальным содержанием; работа коллег все более и более обволакивается клубами непроницаемого дыма, и это грозит серьезным кризисом гуманитарному знанию. Но — добавим в-третьих — комментарий дает и мало пользы для репутации. У нас есть известные комментаторские труды, в качестве примера приведем два комментария к «Евгению Онегину» — набоковский и лотмановский; но тут совершенно очевидно, что известность данных комментариев объясняется высокой репутацией их авторов, а не наоборот, и что они не смогли поделиться престижем с жанром как таковым.
И в-четвертых. Мы много обсуждаем сейчас проблему авторства применительно к автору текста, но применительно к комментатору она во много раз острее. Хороший комментарий создается поколениями (в дальнейшем я попытаюсь показать, почему). Не будешь же ты, занимаясь комментарием, притворяться перед самим собой, будто игнорируешь работу предшественников, и исследовать заново решенные ими вопросы! Но точно так же невозможно и каждый раз давать на них ссылки, особенно там, где задача заведомо предполагает правильный ответ, и найти его не так трудно. Выдающийся филолог М. Л. Гаспаров в «Записях и выписках» признавался: «Комментарии тоже были компилятивные, „импортные“ — я выпустил больше десятка комментариев к своим и чужим переводам, и в них была только одна моя собственная находка (к „Ибису“ Овидия, про смерть Неоптолема)».
В пятых же, поскольку для того, чтобы отличить достойный комментарий от недостойного (по крайней мере на том этапе, когда решены простые задачи и задачи средней сложности), требуется очень сильно вжиться в текст, это делают очень редко.
Один признак — с другой стороны, не читательской, а авторской, — все-таки укажу. Плохой комментатор пишет то, что знает. «И Богу там алтарь триличному поставил», — пишет М. М. Херасков в «Россиаде», и комментатор начинает объяснять догмат о Троице — как будто читатель с таким культурным кругозором, что ему интересна «Россиада» и он станет ее читать, может не знать этого! Хороший же обладает искусством спотыкаться: я этого не знаю, того не понимаю. И начинает свое исследование, вставая перед десятками вопросов из самых разных областей, которые затрагивает текст.
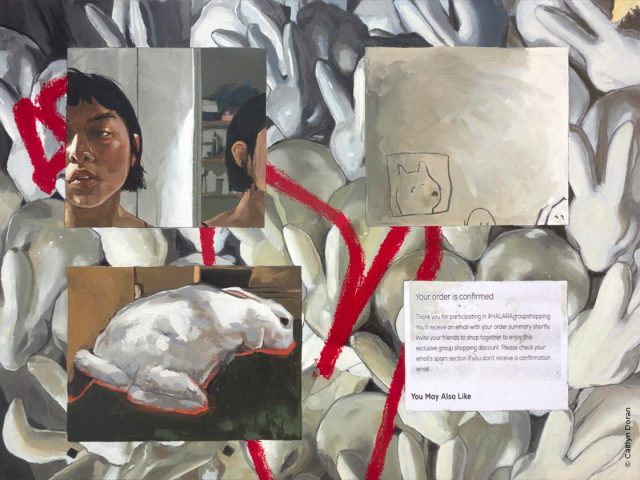
Представим себе, что нам нужно прокомментировать фразу «Цицерон сказал: „История — учительница жизни“».
Неправильный вариант:
Марк Туллий Цицерон (3 января 106 г. до н. э., Арпин — 7 декабря 43 г. до н. э., близ Формий) — римский политический деятель, выдающийся оратор, философ и ученый.
Можно подробнее — и чем подробнее, тем неправильнее.
Правильный вариант:
«Об ораторе», II, 9, 36 («А сама история — свидетельница времен, свет истины, жизнь памяти, учительница жизни, вестница старины»).
Цитата, заключенная в скобках, нужна потому, что комментируемый текст приводит слова Цицерона в сокращении и никак это не оговаривает. Если бы цитата была точной, приводить ее в комментарии было бы не нужно.
Можно было бы не делать и этого, здесь гугл-поиска на полминуты. Не то чтобы указывать источники цитат — хороший тон, но дурной тон — их не указывать (если в принципе есть намерение комментировать текст, а это бывает не всегда).
Это был вымышленный пример. Приведем настоящий.
У М. М. Хераскова есть предисловие к «Россиаде» — «Взгляд на эпические поэмы». Там есть такая реплика о «Гражданской войне» М. Аннея Лукана: «„Фарзалию“ многие нарицают газетами, пышным слогом воспетыми; но сии газеты преисполнены высокими мыслями, одушевленными картинами, поразительными описаниями и сильными выражениями; в ней воспета война Юлия с Помпеем; при всем том поэма недокончена певцом своим и не была исправлена».
Комментарий в большой серии «Библиотеки поэта»:
«Фарзалия» Луканова. Марк Анней Лукан (38–65) — римский эпический поэт, автор незаконченной поэмы в десяти книгах «Фарзалия», темой которой является борьба за власть между Юлием Цезарем и Помпеем в I в. до н.э. Лукан очень подробно и хронологически верно излагает различные перипетии этой борьбы, и его поэма имеет значение исторического источника.
Газеты — здесь: определение хроникального характера поэмы Лукана, как бы передающей подневную запись фактов.
Правильный вариант (я устраняю ссылки):
Здесь Херасков спорит с Вольтером, который в «Идее Генриады» писал: «В этом мы пытались избежать недостатка Лукана, который создал только пышную газету» (une gazette ampoulée, выражение, которое перевел Херасков), ср. в «Опыте об эпической поэзии»: «Нужно ли, чтобы, описав Цезаря, Помпея, Катона столь сильными чертами, он оказался столь слаб, заставляя их действовать! Это едва ли не исключительно газета, преисполненная декламаций». Как историка, а не поэта Лукана воспринимали еще в античности — см., напр., критику «неконвенциональности» его эпоса в «Сатириконе» Петрония. Такого же мнения придерживался влиятельный теоретик эпоса Рене ле Боссю в «Трактате об эпической поэме». Впрочем, у Вольтера есть оценки Лукана, выраженные в совсем другом ключе, и на них также ориентировался Херасков (см., напр., статью «Эпопея» в «Философском словаре»: «Если вы хотите сильных идей, речей с возвышенной философской отвагой, у древних вы не найдете их нигде, кроме Лукана… Составьте вместе все, что древние поэты говорили о богах, — это детские речи сравнительно с этим отрывком из Лукана»).
…Вернемся к началу. Задача комментария — собрать воедино материал, нужный для понимания текста.
Хотя сейчас в моде концепции, рассматривающие текст как явление замкнутое и самодовлеющее (долгое время таким был текст Гомера), на самом деле текст стоит на месте высоком и открыт всем ветрам.
На него оказывает влияние множество факторов — жанровый характер (или, если угодно, «читательские ожидания»), личный жизненный и интеллектуальный опыт, круг чтения (сейчас в моде словечко «интертекстуальность»). Не слишком «концептуализируя», можно сказать, что интертекстуальность, — выражаясь человеческим языком, круг чтения — оказывает на произведение очень большое влияние. К ней мы сейчас и приступим.
II. Игра в бисер
Начнем со знаменитого примера. У Пушкина есть строфа, которую читали «все»:
Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
Среднестатистический читатель-современник Пушкина (можно ли говорить о среднестатистическом читателе Пушкина — нашем современнике?) вспоминает стихи В. А. Жуковского «Лалла Рук»:
Ах! не с нами обитает
Гений чистой красоты;
Лишь порой он навещает
Нас с небесной высоты…

Здесь порассуждаем о вероятностном характере заимствования. Мы знаем, что Пушкин был внимательным читателем Жуковского и обладал отличной памятью. Но никто не мешает нам полагать (такая схема в принципе неопровержима), что Пушкин конкретно этих стихов не читал, или читал и забыл, а потом сочинил то же самое словосочетание самостоятельно. Эта со всех точек зрения немыслимая картина формально возможна. Но здесь перед нами — предельная точка. Автору этих строк, разумеется, не раз приходилось сталкиваться с ситуациями, когда пресловутая «интертекстуальность» казалась ему притянутой за уши.
Иногда бывают совсем сложные случаи. У К. Н. Батюшкова есть такие стихи:
Как гость, весельем пресыщенный,
Роскошный оставляет пир…
У них есть хороший античный фон. Это Лукреций (III, 960–961, «Смерть встает у твоей головы, когда ее не ожидаешь, прежде, чем ты мог бы уйти, сытый и полный вещами») и Гораций, конец I сатиры 1 кн.: «Почему и редко получается так, что мы можем найти человека, который сказал бы, что прожил счастливую жизнь, и ушел бы, как сытый гость». И все косвенные признаки указывают на то, что источником должен быть Гораций: Батюшков знал латинский язык, римский лирик был для него важным автором… Но в записной книжке он называет в качестве источника такую фигуру, как Лантье, о котором автор этих строк никогда не узнал бы, не будь этого прискорбного эпизода. Это очень мощный щелчок по комментаторскому носу, напоминающий нам о том, что филологи-классики называли «промежуточным эллинистическим источником», а исследователи русской культуры должны называть «промежуточным французским источником».
В качестве напоминания о том, насколько трудно и проблематично наше знание, этот эпизод комментатору полезно держать в голове.
Позволю себе еще один прыжок в сторону и напомню об одной комментаторской ошибке. У Державина есть замечательные стихи «На рождение в Севере порфирородного отрока», где есть такая строфа:
Но последний, добродетель
Зарождаючи в нем, рек:
Будь страстей твоих владетель,
Будь на троне человек!
Ключевое словосочетание этой строфы встречается дважды в более ранних стихах Хераскова, и вероятность того, что Державин сочинил его независимо, ничтожна:
…Ты который добродетель
С непорочностью хранил,
И страстей своих владетель
В беспритворной славе был…
…И став страстей своих владетель,
Пороки гнал, а честь любил…
Но классическое издание Державина — гротовское — игнорирует этот факт. Почему? Я. К. Грот был очень квалифицированным и знающим филологом, одним из лучших в тогдашней России, и подготовленное им собрание сочинений Державина до сих пор остается — по уровню филологической подготовки — одним из высших достижений отечественной науки. «Интертекстуальностью» Грот интересовался. Почему же он не нашел эти параллели?
Ответ заключается в том, что он неправомерно распространил свою литературную табель о рангах на прошлый век. Для него Державин был гением, а Херасков — безнадежным графоманом. Ему и в голову не могло прийти, что его кумир и герой мог испить из столь ненадежного ручья. Но (не говоря уже о правиле Сенеки Младшего «все хорошо сказанное кем бы то ни было — мое»), гротовская табель о рангах в державинскую эпоху не работала. Игнорирование этого факта его и подвело.
Впрочем, все три рассмотренных нами казуса — и с Пушкиным, и с Батюшковым, и с Державиным — роднит одно обстоятельство. Все это — игра в бисер.
Наше понимание от знания этих параллелей приобретает дополнительную рельефность и насыщенность, но принципиально и вообще сколько-нибудь заметно не меняется. Комментатор должен в этом честно признаться. Интеллектуальные игры такого рода имеют, конечно, самостоятельную ценность, но «простому человеку» практически ничего не дают.
III. Но иногда — не только игра в бисер…
Впрочем, есть и более значимые вещи. У того же Пушкина в «Евгении Онегине» есть стихи (VII, 52):
У ночи много звезд прелестных,
Красавиц много на Москве.
Но ярче всех подруг небесных
Луна в воздушной синеве.
Это цитата из «Науки любви» Овидия (I, 59): «Сколько на небе звезд, столько в твоем Риме девушек». Когда мы это замечаем, это должно заставить нас вспомнить и другие стихи из «Онегина», те, где Овидий упоминается прямо:
Но в чем он истинный был гений,
Что знал он тверже всех наук…
Была наука страсти нежной,
Которую воспел Назон,
За что страдальцем кончил он
Свой век блестящий и мятежный
В Молдавии, в глуши степей,
Вдали Италии своей.
Внимательный читатель поймет, что овидиевский пласт — не то, чем можно пренебрегать; он прочтет роман на овидиевском фоне. Например, он вспомнит, что одна из рекомендаций в «Лекарствах от любви» — путешествие, и прочтет соответствующий отрывок, вооружившись этим знанием.
Приведем еще один пример. Он взят из одного из самых знаменитых литературных произведений, написанных на русском языке.
Г-жа Простакова (Правдину). Как, батюшка, назвал ты науку-то?
Правдин. География.
Г-жа Простакова (Митрофану). Слышишь, еоргафия.
Митрофан. Да что такое! Господи боже мой! Пристали с ножом к горлу.
Г-жа Простакова (Правдину). И ведомо, батюшка. Да скажи ему, сделай милость, какая это наука-то, он ее и расскажет.
Правдин. Описание земли.
Г-жа Простакова (Стародуму). А к чему бы это служило на первый случай?
Стародум. На первый случай сгодилось бы и к тому, что ежели б случилось ехать, так знаешь, куда едешь.
Г-жа Простакова. Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их дело. Это-таки и наука-то не дворянская. Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь.
Читатель читает и восхищается: как тонко, как умно подмечено и описано традиционное русское невежество! Но не все так просто.
…В один летний день автор этих строк, желая отдохновения, уютно устроился на качелях, достал айпадик и взялся за повесть того же Вольтера «Жанно и Колен». И там прочел следующее:
Хозяин, обезоруженный этими доводами, признал свою несостоятельность, и было решено, что молодому маркизу не стоит тратить время на Цицерона, Горация и Вергилия. Но что же он станет изучать? Ведь надо же ему что-то знать. Не познакомить ли его чуточку с географией?
— А на что она ему? — возразил воспитатель. — Когда маркиз пожелает отправиться в свои поместья, неужели почтари не найдут дороги? Будьте покойны, не заблудятся. Для путешествий нет нужды в буссоли, и из Парижа в Овернь люди отлично добираются, не ведая, на какой они широте.
Я глазам своим не поверил. Про географию и извозчиков читали и помнят все, так что совершенно исключено, чтоб никому до меня не бросилась в глаза эта параллель: для этого вольтеровская повесть должна была бы остаться совершенно без читателей. Но тогда это должен был бы быть общеизвестный факт, и как получилось, что я узнаю о нем последним? На этот вопрос я ответа не нашел, в том, что до меня параллель заметили, убедился, но какие выводы из нее можно сделать?

В. В. Розанов в свое время писал:
«„Недоросли“ глубокой провинциальной России несли ранец в итальянском походе Суворова, с ним усмиряли Польшу; а „бригадиры“ командовали в этих войсках. Каковы они были? Верить ли Суворову или Фонвизину?»
Наша параллель самым решительным образом подкрепляет сомнение Розанова: Фонвизину верить нельзя. То, что мы могли принять за жизнь, есть вольтеровская цитата. Пьеса — что угодно, только не отражение русской жизни. А чтò же она тогда?
Конечно, одного только этого места для вывода недостаточно, но оно важно для серии заключений, которые приводят к выводу: это пропагандистский документ, отражающий желание правительства поставить воспитание под свой контроль (что с домашними наставниками было, очевидно, труднее всего сделать).
А традиционное русское невежество… Можно вспомнить еще одно знаменитое литературное произведение, где главный герой в первой главе, вместо занятий французским языком, приклеивает хвост к Мысу Доброй надежды, а в четвертой — берет у сослуживца французские книги и читает. Таким образом, комментарий оказывается важным в мировоззренческом аспекте — он помогает нам сформировать правильное отношение к своей собственной стране. И в этом смысле он выходит далеко за рамки «игры в бисер».
IV. В качестве приложения
Я уже писал о неблагодарности комментаторского труда. Самые интересные и трудоемкие решения практически никогда не могут быть замечены. Позволю себе одним своим поделиться. Текст — письмо Вольтера Екатерине II от 11 декабря 1772 г.:
«Письмо, прибывшее в пакете со стороны Бецкого, весьма ценно. Я думаю, оно принадлежит нашему Фальконету, но то, что Ваше Императорское Величество соизволило написать мне о вашем учреждении — более чем Сен-Сире — много выше печатного письма Фальконета, которое, не менее того, весьма хорошо».
Сен-Сир и Смольный монастырь нас сейчас не интересуют — это уже было. Задача заключается в том, чтобы понять: какой именно документ был передан Вольтеру через И. И. Бецкого.
Из письма мы узнаем четыре его признака: он принадлежит Этьенну Фальконе, он не подписан, он представляет собой послание и он существует в печатном виде. Ну и, разумеется, он на французском языке. Кроме того, понятно: его содержание таково, что Вольтер угадал автора без подписи.
Совокупность этих признаков напоминает известную задачу «пойди туда, не знаю куда, найди то, не знаю что».
Сначала я проверил по сводным библиотечным каталогам за соответствующий период (документ должен быть достаточно свежим, пяти лет более чем достаточно) с заголовками Lettre и Epître («Письмо» и «Послание») — может быть, коллеги уже установили авторство анонимного документа, а может быть, просто найдется достойный кандидат. Эти поиски не увенчались успехом.
Тогда я вспомнил, что проза Фальконе уже становилась предметом моего внимания: он был переводчиком Плиния Старшего. Я забрался в его собрание сочинений и вскоре обнаружил там то, что мне было нужно. Это оказался не отдельный документ, а отрывок из большого произведения в виде письма. Комментарий в итоге приобрел такой вид:
По-видимому, в пакет было вложено следующее письмо: Lettre à une espèce d’Aveugle. Оно входило в состав Observations sur la statue de Marc-Aurèle, et sur d’autres objets relatifs aux beaux-arts. A Monsieur Diderot. Par Etienne Falconet. A Amsterdam, Chez Marc-Michel Rey, 1771. Письмо датировано июнем 1769 г. Оно находится в данном издании на сс. 193–205, с постскриптумом, который предлагает не удивляться, встретив копию этого письма. Если предположить, что в состав пакета входили именно данные страницы, а не все издание, это объясняет и то обстоятельство, что Вольтеру приходится догадываться об авторстве (что, впрочем, вполне нетрудно, поскольку речь в письме идет о статуе Петра Великого, которую адресат видел в мастерской автора). Нам не удалось обнаружить отдельных его изданий в доступных электронных каталогах различных библиотек.