«Я свою докторскую диссертацию читать не могу — падаю в обморок от обилия сложной терминологии». Лингвист, лауреат «Просветителя» Кирилл Бабаев — о правильном научпопе, мужском и женском языке и о том, как заинтересовать людей наукой
Кирилл Бабаев — один из редких людей, в которых сочетается страсть к науке и бизнес-хватка. К 39 годам он успел открыть новый язык, стать лауреатом «Просветителя», защитить докторскую, возглавить издательство, выйти в финал конкурса «Лидеры России» и создать Фонд фундаментальных лингвистических исследований — частную организацию, которая финансирует гуманитарные научные проекты. На форуме «Россия — страна возможностей», где ученый и предприниматель выступал экспертом панельной дискуссии «Наука и прорывные технологии будущего: меняем мир сейчас», мы поговорили с ним о том, как заинтересовать детей наукой, о менеджменте академической сферы, а еще о том, как он ввел в язык африканской народности русское заимствование, о языках охотников и разнице между жизнью сказочного медведя в России и в Африке.

— Я прочла, что в одной из научных экспедиций в Африку вас посадили в тюрьму. Как? За что?
— За шпионаж, конечно. В африканской глубинке люди мало себе представляют, что такое лингвистика и что такое научные исследования. И естественно, когда ты приезжаешь и говоришь, что хочешь изучить их язык, к тебе относятся как минимум с недоверием.
Люди могут представить, что ты приехал что-то покупать или продавать, заниматься торговлей людьми или алмазы добывать, но точно не изучать язык. И когда я приехал в гвинейскую глубинку, я не догадался ничего объяснить. Это была моя первая экспедиция. Меня на всякий случай посадили в муниципальную тюрьму небольшого селения. Это такая комната без окон, где скамеечки по стенам — и больше ничего.
Я там просидел день, потом понял, что мое бездействие бесперспективно, у меня же виза истекает, а мне нужно язык открывать. И я начал стучать в дверь: «Собирайте старейшин, я буду толкать речь!» Говорил по-французски, мой коллега переводил на язык зиало. Говорил нечто вроде: «О вашем языке, величайшем на свете, никто не знает. А я хочу написать книгу о нем. О вас заговорят в Москве и в Париже. О языке ваших соседей лоома знают, а о вас нет». Отношение изменилось мгновенно. Старейшины дали мне имя, причислили к роду, поселили у себя, обеспечив едой, и сказали, что теперь у меня есть дом и своя деревня.
— В чем значимость открытого вами языка зиало?
— Любой язык значим. Когда Магеллан открывал острова, он же не думал, какой остров чем значим, просто это нанесение на карту мира неизвестных реалий. Язык — то же самое. Каждый язык — жемчужина, потому что он представляет что-то новое для науки.
— Вы правда внедрили в их язык русское слово «фигня»?
— Они очень часто говорили «спасибо», а я им очень часто на это отвечал по-русски «фигня». Они решили, что это слово значит «не стоит благодарности».
Я там прожил около месяца, но когда мы прощались, среди жителей уже бытовало это слово. Так что теперь у зиало есть русское заимствование.

— Африканцы вообще знают свой язык?
— Если ты не ученый, ты не можешь посмотреть на свой язык со стороны, для тебя язык — это естественная часть тебя, твоего общества, твоей культуры. Поэтому, конечно, не задумываешься, где в этом языке гласные, где согласные, где существительные, где сказуемые. И когда я говорил жителю той деревни: «Смотри, в твоем языке два тона: высокий и низкий» — для него это было большим открытием, чем для меня.
— Два тона?
— Да. Слово «пеле» с высоким тоном означает «дом», а с низким — «нога». Привыкнуть к фонетическим реалиям не просто с первого раза, это требует некоего навыка. У меня хороший слух, я достаточно быстро осваиваюсь, но все равно тональные языки для нас совершенно неизвестны, мы в русском языке тонов не имеем, у нас ударение силовое. А у них каждый звук произносится на определенной ноте: либо высокая, либо низкая. Это хорошо, что у них только два тона, а ведь есть языки, в которых шесть тонов. Там сложно.
— Какие языки вы знаете?
— Говорить могу на английском, французском, испанском, немецком, арабском, турецком, японском, корейском, украинском, ирландском и литовском.
— Как это все уживается в голове?
— Знать язык невозможно. Можно обладать некоторой информацией о языке. Мы не можем даже сказать, что знаем русский язык, потому что существуют диалекты и арго. Мне иногда даже мой сын говорит слова, о которых я не имею ни малейшего представления. Так и с иностранными. Ты можешь свободно говорить, можешь писать и читать, но все равно это ограниченные знания. С английским я много работаю, поэтому знаю его лучше, а по-латыни могу только читать, потому что с кем я буду говорить? Юлий Цезарь умер, больше после него и поговорить-то не с кем.
— Когда вы записываете слово, вы же его все равно интерпретируете. Какие слова вам так и не удалось точно перевести?
— В Папуа есть языки, в которых одно слово из двух слогов обозначает, например, двух или более лиц одного пола, которые садятся в лодку, чтобы плыть вниз по течению.
Некоторые русские слова тоже переводятся на другие языки целыми предложениями. Например, как перевести наречие «ничего»?
Чтобы хорошо изучить язык, ты должен изучить культуру и представлять себе те или иные понятия.
— Есть книга «Не спи — кругом змеи», и там как раз описан язык одного африканского племени. У этого народа нет ни числительных, ни прошлого и будущего времени. Есть только «много», «мало» и «сейчас». Встречали ли вы подобное и как новый язык влияет на ваше мировосприятие?
— Да, эту книгу выпустил мой издательский дом «ЯСК».

У большинства охотничьих народов больше трех счета нет. Просто нет необходимости. Если другие числительные есть, как правило, они заимствованы из какого-то более продвинутого языка.
Каждый народ прошел эту фазу. И с усложнением жизни, усложнением культуры усложняется и система языка. Мне всякие языки встречались. Их изучение меняет наше мировосприятие. Когда ты погружаешься в чужую культуру, ты можешь со стороны посмотреть на свою. Ты возвращаешься другим человеком, понимаешь, что мир на самом деле гораздо более многогранен, чем мы его видим.
У нас, например, мир материальный и мир духовный довольно сильно разделены. Жители многих африканских стран не разделяют эти понятия. Соседи, родственники, духи, священные животные — все они являются частью общества. Для африканца увидеть духа совершенно естественно. Камень или говорящий зверь — это сопровождает его каждый день. Это очень сложно понять, но когда понимаешь, ты воспринимаешь мир совершенно по-другому.
— Что значит «мужские» и «женские» языки внутри языка?
— Даже в русском языке ни один мужчина не использует слово «душечка» при обращении.
— Некоторые используют.
— Ну, может быть. Но в каждом языке существуют маркированные слова — мужские и женские. У нас четкого разделения нет, а в японском языке это явно прослеживается.
Если ты мужчина и говоришь про себя, то используешь слово «боку», а если ты женщина, для тебя этого слова не существует, для тебя есть «ватаси».
— А если японка все же употребит «боку»?
— Она этого не сделает. Только если шутит и изображает мужчину.
— Как записать языки щелчков, свиста, барабана?
— Наука выработала методологию для записи абсолютно любого языка. Щелчковые звуки, которые существуют в некоторых языках на юге Африки, записываются с помощью определенных символов. Например, вертикальная черта означает латеральный, боковой звук. (Кирилл щелкает.) Восклицательным знаком обозначаются вот такой (Кирилл щелкает немного иначе.) Их всего шесть штук. Язык со щелчковыми звуками нужно отделять от языка свиста. Свист — это неполноценный язык, на нем произносят некоторые понятия, которые нужно передать на большое расстояние. Не бывает людей, которые говорят только языком свиста и больше никаким. Этот язык люди выучивают. А языки со щелчковыми звуками, койсанские языки — их довольно много, и знают их люди с детства.
— И так можно предложение прощелкать?
— Это лишь часть согласных. У них есть и обычные согласные, как у нас.
— А барабаны?
— Барабаны в Африке — это искусственная коммуникативная система, она тоже создана, чтобы передавать сообщения на расстоянии. Но это возможно только в тех регионах, где языки тональные. Барабан передает тон, и людям понятно, о чем идет речь. Русские слова барабанами не передашь.
— Эх, не поговорить на барабанах о Достоевском. А язык жестов? Вы их изучали?
— Специально я никогда эти языки не изучал. Но знаю, что они существуют во многих странах. В Западной Африке, например, есть поселение, где довольно большой процент глухих людей. Произошла какая-то мутация, и с каждым годом рождается все больше глухих. Их количество не превышает 10 %, но и этого достаточно, чтобы жители создали систему жестового языка, который позволяет использовать не только кисти рук, но и предплечья, ноги. Это довольно большая система.

— Вы ведь, изучая язык, изучаете и сказки, мифы. Какие запомнились?
— Это очень сложно сказать. Они уникальны настолько, насколько уникальна культура народа. По сказкам очень легко понять, каков народ. Недавно читал книгу о том, что такое русский стиль управления. И там было написано, что в России всегда чередуются спокойная и мобилизационная фазы.
В застойной фазе русское общество живет весьма лениво, но если надо, все бросают свои личные дела и отправляются родину защищать. И это проиллюстрировано сказкой про Илью Муромца, который тридцать три года лежал на печи.
А в Африке, например, одним из главных сокровищ сказок является еда. Герои сказок могут совершать героические поступки только ради еды. Ну, и женщин иногда. Но сначала еда. Частый мотив: принц приводит свою принцессу в свой дворец, и там все завалено рисом. Вот это — африканский хеппи-энд.
— Вот вы так интересно рассказываете о полевой работе — но при этом не отдаете ей все свое время, как делают многие исследователи, а занимаетесь еще и бизнесом. Вы — ученый или управленец?
— Наука — мое призвание. Но живу я в двух мирах — науки и бизнеса. Наука интереснее, но бизнес позволяет мне привлекать средства на научную деятельность. На мой взгляд, для управления наукой в России важно сочетать эти два навыка. Заниматься управлением в науке должны люди, которые имеют научный и управленческий бэкграунд.
У нас мало ученых среди управленцев и мало управленцев среди ученых. Люди занимаются либо одним, либо другим.
В чем изначально были трения между Федеральным агентством научных организаций (ФАНО) и научным сообществом? Академики считали, что люди, которые пришли в ФАНО, не имеют представления, что такое наука. А чиновники — что ученые не представляют, что такое управление.
На дворе XXI век, наука сильно меняется. Мы серьезно отстаем именно из-за того, что не занимаемся администрированием науки. Наука не может существовать сама по себе, особенно гуманитарная. Наука должна интересовать государство и крупные корпорации.
— Что государство должно делать для науки помимо того, что давать ей деньги?
— Просто давать деньги — это неэффективно. Должны быть выстроены четкие приоритеты, определены прорывные направления. Государство и научное сообщество вместе определяют узловые векторы. Например, нам нужно заниматься развитием атомной энергетики, биотехнологий, большими данными, робототехникой, потому что это мировая тенденция. Если здесь опоздаем, значит, не сможем конкурировать. Нельзя распылять государственное финансирование, оно должно быть адресным. Научное сообщество и чиновники должны вместе садиться и решать, куда направить деньги.
Если контакт между чиновниками и учеными будет налажен, наука станет развиваться более эффективно. И эта деятельность должна быть максимально открыта. Нужно объяснять людям, почему мы финансируем именно эту сферу науки. Нужны не только научные книги, но и научно-популярные издания. Изданий таких сейчас не так много, но становится больше.
Помимо этого, государство должно обеспечивать людям качественные технологические площадки.
Сегодня в академических институтах работать сложно, потому что там нет нормальных компьютеров, доступа к базам данных, подписок на зарубежные издания, многие люди работают дома.
Также нужно сращивать науку и высшее образование. Университеты становятся не только центрами обучения, но и центрами формирования научного сообщества, центрами мысли. Идеи появляются, потому что взаимодействуют люди. Допустим, я читаю какой-то лекционный курс, на лекции мне задают вопрос, который порождает новые идеи.
— Разве этого сейчас не происходит? Вам ведь задают вопросы.
— Безусловно. Но сейчас у нас разделены наука и высшее образование. Если ты профессор МГУ, ты можешь просто читать свой курс и уходить. Тебе не платят деньги за исследования. За исследования ты получаешь деньги в академическом институте. Ученому приходится разрываться между двумя площадками — он и преподает, и работает в институте. Если бы у него была единая лаборатория, то это было бы намного эффективнее. Студент задал вопрос — преподаватель после занятий пошел к себе в кабинет и начал там этот вопрос изучать. По этому принципу построена Высшая школа экономики. Это пример того, как наука и образование могут генерировать инновации. Безусловно, за этим будущее.
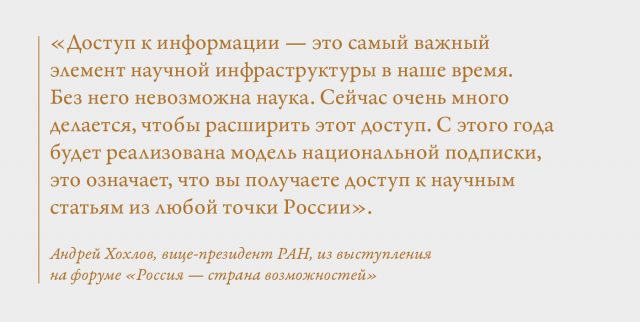
— На ваш взгляд, надо ли привлекать в науку частные инвестиции?
— Да, это очень важное направление, которым должна заниматься система научного менеджмента в стране. Практика показала, что частные инвестиции можно привлекать не только в прикладные исследования, но и в фундаментальные. Мой Фонд фундаментальных лингвистических исследований в течение нескольких лет реализовал больше 150 проектов из области языкознания за частные деньги. Но надо уметь заинтересовывать инвесторов.
У нас ученые считают, что деньги должны просто падать с неба: государство должно мне платить, а я решу, чем заниматься. На самом деле, научный менеджмент заключается и в фандрайзинге. Ты должен уметь привлекать деньги.

— Помимо дискуссий с коллегами и привлечения инвестиций развитию науки, безусловно, помогает общение с коллегами по специальности из других стран. У вас нет ощущения, что российская гуманитарная наука изолирована, в частности, из-за того, что английский, язык международного общения ученых, не так распространен среди отечественных деятелей науки?
— Нет, сейчас все встречаются, ездят на международные конференции, имеют возможность читать зарубежные издания. Другое дело, что наши достижения не всегда становятся известны, потому что российские ученые предпочитают пока писать на русском языке и в русских изданиях. Но это все развивается, просто нужно не останавливаться.
Мы в издательстве «ЯСК», считаю, много сделали в этом направлении: заключили договоры с несколькими западными издательствами и продаем наши книги за рубежом русскоязычной аудитории, тратим собственные деньги, чтобы переводить наиболее яркие работы российских авторов. Например, недавно мы издали на английском в США книгу академика Евгения Черных, он археолог, занимается проблемами великой степи. Естественно, каждый такой проект на вес золота, потому что он открывает российскую научную мысль западной аудитории и позволяет нашим ученым гораздо эффективнее конкурировать на мировом рынке.
— В какой отрасли гуманитарного знания Россия впереди всего мира, а в какой отстает?
— Россия довольно слабо представляет, что такое политическая наука, потому что те вещи, которыми не занимались в советское время, стали формироваться у нас очень поздно, лет 10–15 назад.
Большинство людей, которые называют себя политологами в России, таковыми не являются. Есть лишь практикующие политологи, которые занимаются технологиями.
Экономика тоже растет быстрыми темпами. Ведь в СССР у нас была марксистская политэкономия, мы в основном «Капитал» изучали. В этой дисциплине мы значительно слабее, чем, например, в языкознании. Российское сравнительное языкознание известно во всем мире. Как мне кажется, также у нас очень сильная археология.
— Востоковедение?
— На очень высоком уровне, потому что в советское время оно использовалось как инструмент государственной политики.
— На ваш взгляд, нужен ли человечеству, помимо технологического, прорыв гуманитарный, прорыв ценностей и идей, чтобы перейти на следующий уровень развития?
— Совершенно очевидно, что мир меняется быстрее, чем мы этого сами хотим. И постепенно дисциплины совмещаются между собой. Археология, история, лингвистика, палеоботаника, политология — все это будет сращиваться, будут создаваться гораздо более узкоспециальные направления. На поверхности мы более-менее изучили человека и жизнь вокруг, пора углубляться. Но здесь предсказывать очень сложно. Футурологом быть в науке сейчас никто не решится.

— Давайте сузим вопрос общемирового гуманитарного прорыва до России. Мы говорим «Россия», подразумеваем «духовность, Пушкин, Достоевский» и т. д. Не только для нас с вами, но и для всего мира гуманитарная Россия часто предстает Россией духовно-нравственных ценностей, терзаний, юродивых и морально-этических парадоксов. Но все эти отсылки чаще всего из глубокого прошлого, на протяжении веков в хрестоматийном образе «русской мысли» не появляется радикально новых аспектов. Сколько еще мы сможем выезжать на «Евгении Онегине» и «Войне и мире»? Видите ли вы какие-то точки роста, которые выдвинут нас на передний план мировой гуманитарной мысли и искусства?
— Русская культура — это культура литературы. От этого никуда не денешься. Даже если посмотреть на современную литературу, вы поймете, что популярными становятся книги, в которых все равно рассказывается о том же, о чем рассказывалось в «Евгении Онегине» или «Войне и мире».
Другое дело, что изучать эти произведения можно и под иным углом. Важно отойти от догм, чтобы научить людей мыслить. Ведь школьная программа по литературе сформировалась еще до революции. Кто из нас в свободное время открывает томик Жуковского? Очень мало кто. Но Жуковский был воспитателем Александра II, поэтому его в царское время сильно пиарили. Потом Жуковский перекочевал в советскую программу, а из советской — в нашу с вами.
И так происходит не только с авторами, но и идеями, которые автор хотел передать. Я считаю, что школа должна давать детям возможность думать и приходить к собственным выводам, может быть, неожиданным.
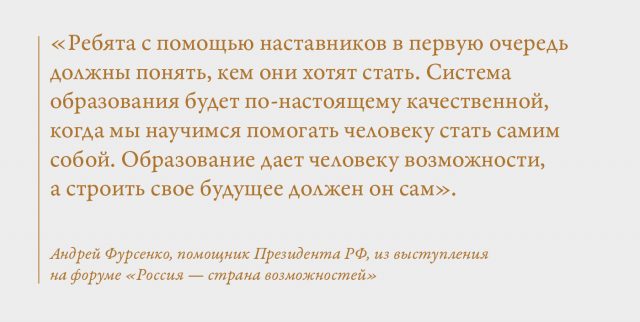
— А как привлечь детей в науку, заинтересовать историей, гуманитарным знанием в целом?
— Заинтересовать наукой — очень просто. Первое — нужны внешкольные образовательные программы и мероприятия, например олимпиады. Второе — книги.
Нужно выпускать качественные научно-популярные издания, не те, которые написаны птичьим языком, а нормальные книги. Я свою докторскую диссертацию открыть не могу — падаю в обморок от обилия специальной терминологии.
Как дальше привлечь молодежь непосредственно в науку — универсального рецепта нет. Это огромное количество аспектов государственной политики. В принципе государство сейчас движется в правильном направлении. Создаются новые центры, учебно-образовательные проекты вроде «Сириуса» и «Кванториума», реформируется Академия наук, принята Стратегия научно-технологического развития. Все это позволяет вовлекать новых людей. Просто нужно идти дальше.
