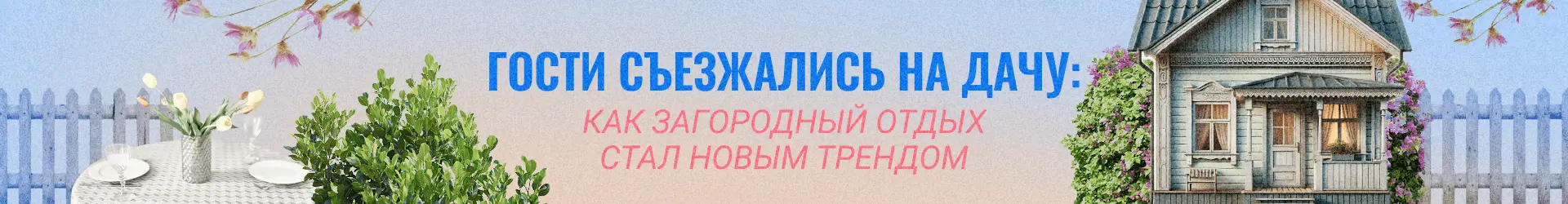Новых медиа не было. Краткий гайд по исследованиям материальной природы коммуникации
Медиа — не просто поток информации, транслируемый тем или иным способом, но и сам материальный способ этой трансляции — от клинописной таблички до экрана айфона, — который зависит и от технических достижений эпохи, и от экономической системы, в которую медиа включено. Вместе с литературоведом и редактором альманаха [Транслит] Павлом Арсеньевым мы уже разбирались во влиянии железных дорог на русскую литературу — сегодня же он представляет читателям «Ножа» краткий гайд по основным гуманитарным подходам к исследованию влияния физических аспектов коммуникации на ее содержание.
Век спустя после манифеста Хлебникова и Крученых «Слово как таковое» и полвека спустя после motto Маклюэна о медиуме-сообщении кажется, что мы существуем в эпоху предельной осознанности момента медиума — в искусствах, теории и коммуникативной повседневности. Однако если при «первых упоминаниях» и шальных догадках момент медиума будоражил воображение (возможно, опережавшее действительную степень зависимости сообщения от медиума или даже сводимости первого ко второму), порождал теоретические распри и артистические провокации, электризовал ситуацию самим переворачиванием эпистемологической перспективы, то сегодня, когда каждый школьник вместо выученного наизусть стихотворения норовит предложить свой перформативный дыр булл щыл (тик-ток и т. д.), а каждый студент готов на любой вытянутый билет важно сообщить о том, что medium is the message, кажется, мышление о медиуме окончательно автоматизировано, его акции находятся на спаде и можно с уверенностью констатировать отток теоретических симпатий к другим вопросам.
Возможно, именно поэтому, несмотря на то что из всех доступных мест медиа сегодня твердят, что они новые, в действительности сама категория необратимо устарела в восприятии современников. Но если всякие медиа стали старыми, то сами старые медиальные средства и техники неожиданно получили новое измерение прочтения, которое во второй половине XX века стали всё чаще называть археологическим. Тогда как футуристическая поэзия и формальная поэтика были грабительским займом будущего для своей еще совершенно аналоговой эпохи (и именно на этом фоне выглядел таким новаторским способом действия и мышления), то медиаархеология оказывается своего рода возвращением долга артистического и теоретического внимания прошлым векам, не столь тривиальным в том числе в медиальном отношении. Мы приходим к такой экономике внимания только сегодня, когда стало окончательно ясно, что «инструменты письма тоже трудятся над нашими мыслями», но именно поэтому у наших мыслей высвободились мощности для того, чтобы потрудиться над историей инструментов письма и различных литературных (кино, etc.) техник. Именно этого, более комплексного и, если угодно, рефлексивного взгляда не хватало в эпоху, когда требовалось утвердить саму возможность рассуждать в терминах медиума, заострить сам момент формально-технического устройства и оторваться от веков обесценивания «мертвой буквы» (в пользу «животворящего духа», разумеется).
Более того, пока алфавит еще не испытывал серьезной конкуренции и медиум языка считался основным и чуть ли не единственным, акцент на его медиальности в формализме и сам оказывался достаточно логоцентрически устроен и стремился к девалоризации собственно медиатехнического момента в циркуляции означающих.
Один простой пример из классика формального анализа.
Включаясь в гонку вооружений между русскими и итальянскими футуристами, Якобсон усердствует в пурификации критериев языковых изобретений — более чистых у заумников — и заодно сбрасывает с корабля и технические факты, и технологические объекты, трансмиссию с которых стремится передать фактам поэтическим Маринетти:
«Новые факты, новые понятия вызывают в поэзии итальянских футуристов обновление средств, обновление художественной формы, так де возникает, например, parole in liberta. Это реформа в области репортажа, а не в области поэтического языка. <…> И здесь решающим побудителем нововведения является стремление сообщить о новых фактах в мире физическом и психическом».
Отметим, что технические факты могут быть не только объектами литературных произведений, но и факторами литературной эволюции, столь во многом напоминающей не только естественную, но и эволюцию технических объектов. Очевидно, что первые опыты воздушного полета, приходящиеся примерно на тот же год, что и первые манифесты футуризма, меняли физический и психический опыт настолько, что могли стать не только фактами, требующими сообщения, но и техническими фактами, оказывающими влияние на литературную технику и приносящими с периферии новые литературные факты.
По этой причине, наряду со сдвигом исторического фокуса от аналогового футуризма к медиаархеологии, мы хотели бы конкретизировать в этом обзоре ракурс рассуждения о медиуме до медиатехнического, то есть такого, в котором медиум понимается не просто как перелицовка трансцендентальной философии и еще одна версия (медиа)феноменологии, но как конкретные, исторически локализуемые материально-технические изобретения, меняющие наши когнитивные и чувственные априори и порождающие определенную коллективную экономику внимания.
Чтобы уточнить угол обзора (или удара), до перехода к обсуждению конкретных методов — несколько симптоматичных примеров приближения к медиачувствительности в мысли XX века, закономерно следовавших за всеми теми техническими изобретениями, что начали появляться уже в конце века XIX, навсегда изменив не только повседневный опыт потребителей знаков, но и гуманитарные науки, долгое время позволявшие себе не замечать ничего, кроме того, «что написано на языке».
Так, впервые восславившие новые на тот момент медиа — радио, массовую газету и кинематограф — теоретики ЛЕФа уже боролись прежде всего со «старо-литературным отношением к вещам» и «частно-квартирным потреблением» информации. Таким образом, главная ставка была здесь не в какой-то всё разрешающей новизне медиа, ведь наряду с «усадебной эстетикой» знаменитые изобретения Эдисона — фонограф и кинескоп — также структурировали перцептивный опыт как принадлежащий изолированному субъекту, логика чего сегодня окончательно закреплена «персональным компьютером». Именно такой сепаратный опыт медиапотребления критикует значительно позже Ги Дебор, делая акцент не столько на содержании массмедиа, сколько но психосоциальной стратегии изоляции тела индивида и атомизации сообщества.
Латур тоже описывает современность, которой «мы никогда не были достаточно пронизаны», через отчуждение всех связей традиционного общества посредством науки и техники и ищет новых экосистемных привязок (attachment). Примерно так же — пятью веками, начиная с раннего Нового времени — датировал Арватов проституирование утилитарной функции искусства художником, утратившим связь с городом. Параллельно этому Стенгерс тематизирует ось не/определенности, которая в ходе прогресса науки (например, квантовой физики) поставила под сомнение саму идею линейного прогресса и привела к переоценке самого ментального состояния неопределенности. На основании этих осей Доминик Булье предлагает четыре режима внимания, существующие на данный момент по линии напряжения между верностью и тревогой, между проекцией и растворением.
Первая оппозиция знакома многим: более традиционные доктрины, в частности религии, формируют своих верных адептов в ходе ритуалов. О «маршрутизации божественного» писал и Режи Дебре, но он больше сосредотачивался на действенности сообщений, поддержанных определенной материальной и институциональной организацией. Здесь же мы возвращаемся к старинной французской мудрости: «сложите руки — и вы уверуете». Анатомией, однако, дело не ограничивается, ее продолжают и расширяют архитектура — соборов и стадионов, «эффект свода». Наконец, повторяемость всякого ритуала (и чем единообразнее, тем лучше) — залог веры как вырабатываемой привычки. В любом случае психическое здесь оказывается следствием телесного и моторного.
Верность — параметр технологически и исторически изменчивый. Сохранение верности требует постоянного поддержания иммунитета против других существующих религий, партий, торговых марок или даже просто других мужчин/женщин. В современной урбанистической и тем более медиатической среде это становится всё более и более сложно: в них мы подвержены высокому риску заражения чем-то новым. Здесь нас постоянно уведомляют о новых возможностях, которые мы рискуем упустить, оставшись слишком верными уже вошедшему в нас и в привычку.
Собственно, противоположным верности режимом внимания является тревога (alert), о превышении уровня которой нам постоянно напоминают мобильные устройства (один из примеров корявого, но крайне симптоматичного перевода на русский — «превышено число тревог» в приложении будильника).
Они же создают «климат стресса», как это называл уже в 1980-е Слотердайк, не уточняя техно-информационного субстрата этого условия. Но и этот режим внимания уходит в еще более древние времена и варьируется от одной техноисторической эпохи к другой: так, можно сказать, что пока социальные и, добавим, синаптические связи были покрепче, художественные изобретения видели своей задачей скорее сброс с корабля и всевозможное остранение. Еще 1960-е стремились пробить брешь в привычках восприятия, тогда, как правило, носивших позорное именование буржуазных. Однако сегодня с задачами «разрыва шаблонов» прекрасно справляются маркетологи новых коммерческих, культурных или политических предложений. Собственно «новые предложения» только и существуют на фоне хорошенько вошедшего в привычку, а то и порядком поднадоевшего, это постоянный двигатель коммерции идей и вкусов. Исторически меняется только наша (всё возрастающая) предрасположенность к смене, готовность к тому, чтобы «начинать всё сызново», и как-никак авангардное искусство немало способствовало вхождению в привычку самого отказа от привычного, достаточного и необходимого (для творчества) уровня тревоги. Или интенсивности и продолжительности внимания, как это характеризовали психологи XIX века, столь повлиявшие на русский авангард.
Такой тревожный режим повседневности легко противопоставить некоему более благородному миру более длительных культурных увлечений, но чтобы эти последние возникли, всегда необходимо творческое изобретение, основанное на разрыве с привычками выражения и восприятия, как раз теоретизированное формализмом.
Чем ближе к концу XX века, тем больше различных версий и акцентов медиаанализа появляется, и для того, чтобы сориентироваться в современной ситуации, стоит кратко напомнить о ключевых эпизодах.
Материальные природы коммуникации
Исторический момент перехода от XIX века, вдохновленного научными эпистемологиями, к началу XX века, делающий главными героями медиатехнические вещи, разумеется имеет и свою методологическую корреляцию. К концу десятилетия, в которое появились пионерские работы Фридриха Киттлера по археологии технических медиа (1985/86) и Вульфа Лепениса по общей истории дисциплин (1985), оформляется нечто вроде исследовательского движения антигерменевтического толка, которое получает первое оформление в сборнике Materialities of Communication, опубликованном на немецком.

Этот программный, хотя еще очень разношерстный сборник имеет смысл проанализировать на материале текста редактора-составителя, знакомившего англоязычную публику с состоянием «немецкой науки» в конце XX века. Ханс Ульрих Гумбрехт прощается (в последней главе книги) с интерпретацией, то есть стремлением к истолкованию, (само)критике которого уже немало внимания уделил к тому моменту и медиаанализ Киттлера. Если раньше от теории ждали абстракции (от материальности), то в силу ее же собственной эволюционной динамики не мог не произойти поворот к обратному. В качестве точки, в которой сходятся «страсть к теории» авторов сборника, называется реинтеграция человеческого тела в модели самореференции человека и одновременно становление самих humanities менее антропоцентричными. В 1994 году это подразумевает, как уточняется в скобках, становление более экологичными и одновременно готовыми обсуждать функциональные эквивалентности между интеллектом и телом, человеком и машиной. Словом, абстрактная, выходящая за пределы опыта инстанция заменяется множественными и более воплощенными фокусами самореференции.
Если логоцентризм (и его теоретические провайдеры в XX веке — прежде всего структурализм и феноменология) списывал всю физическую внешность (exteriority) языковой деятельности, то теперь «материальность коммуникации» возвращается из забвения так же, как в свое время исключенные сюжеты «литературной психологии» со становлением психофизиологии и психоанализа возвращались в науку.
Главным образом возвращение вытесненной «обшивки» подразумевает отказ от идеальности смысла, а средства в борьбе с ней перебираются самые разные — от «несемантических функций звука и цвета» и «телесной воплощенности значения» до «недовольства коммуникативнымисистемами».
Воюющие со своим (немецким) герменевтическим прошлым «материальности коммуникации» можно рискнуть назвать проектом позитивных гуманитарных наук, на которые указывал еще Дильтей, когда говорил о «физических процессах как всего лишь условии, инструменте понимания», то есть квалифицируя всякую материальную поверхность как вторичную и всегда несовершенную тень данного внутри субъекта. Для переворачивания этих отношений и самой немецкой герменевтической традиции привлекаются Соссюр, а за ним и Ельмслев, чтобы перейти от идентификации предсуществующих значений к реконструкции (формальных) условий их зарождения. И хотя оба эти союзника представляются весьма случайными (хотя и строго позитивистски и антигерменевтически настроенными), главной формулой, объединяющей почти всех авторов «материальностей коммуникации», становятся пока еще очень размытые «феномены, участвующие в производстве значения, но не являющиеся им сами», слегка напоминающие к тому же самохарактеристику одного из персонажей, стоявшего в основании герменевтической традиции («Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо»).
Так или иначе исследователи «материальности коммуникации» отправляются, отталкиваются от интерпретации как «вольного перевода с немецкого», чтобы прийти к условиям конституирования значения (meaning constitution) — в диапазоне от физиологии человеческого тела до физических свойств означающего, уже не сводящихся к «общественным условиям» его распространения, как в неомарксистской философии языка. Проблема разве что в том, что это на самом деле существенно расходится с представлениями Соссюра о несущественности физических свойств знака, что собственно уже и критиковалось у Волошинова и потому напоминает продолжение борьбы двух национальных эпистемологических традиций, в которой германские антигерменевтически настроенные силы отказываются от трансцендентального фокуса, но только для того, чтобы позволить агентности возникнуть из «сцепления тел, психических систем и новых коммуникационных технологий». Возможно, в качестве третьего пути между культурной ностальгией (герменевтики) и технологической эйфорией (позитивизма) стоит рассматривать две следующие программы.
Возделывание письма
Вслед за интересом к (медиа)археологии знания и сближения культурных медиаций и технических протоколов в немецкой традиции возникают исследования «культурных техник» (Kulturtechniken) как своего рода ревизия технологического материализма Киттлера — его расширение и одновременно более мягкая версия.
Само понятие происходит из сельского хозяйства и обязано масштабным амелиорационным процедурам орошения и осушения пахотных земель, выравнивания русел рек, создания водных резервуаров. Оно также включало изучение и практику гидрологии и геодезии. Землемер Кафки и Андрей Платонов профессионально относились к тому, что на немецком называется Kulturtechniken.

В отличие от подозреваемой в избыточном технологическом детерминизме и методологическом антигуманизме (вслед за Фуко) модели Киттлера, авторы исследований культурных техник сосредотачиваются на таких элементарных практиках, как счет и письмо, размывая и расширяя понятие техник с помощью предикации его культурой. Это уже не про аккультурацию природы (что может подсказывать сам аграрный термин и резонансы со структурной антропологией), но про технологизацию нашей «второй природы», то есть культуры, или аккультурацию технологии (которую тоже можно назвать нашей «второй природой»). То, что инструменты, операции и процедуры могут представлять собой объект исследования, как будто вдохновляется предпочтением знания-как — знанию-что, акта — номенклатуре. Но если теоретические объекты вторичны по отношению к практическим действиям, не создается ли ими и сам агент? Не возникает ли субъект из жеста (письма или другой культурной техники)? Не то чтобы «так называемый человек» здесь переживал реабилитацию, но исследования культурных техник определенно предполагают более сильный акцент на фигуре актора и тем самым существенно сближаются с прагматической антропологией.
Субъект по-прежнему, как и у Киттлера, остается фантомом, но теперь он возникает не столько в протоколах и алгоритмах технических медиа, сколько в «обретающей сознание» материальной поверхности записи, которой являются человеческое тело и мозг.
В археологии технических медиа эту распределенность заслуг было рассмотреть проще (как в классическом motto Ницше об инструментах, которые «тоже трудятся над нашими мыслями», возникшем после его контакта с печатной машиной), но зависимость агента от техник следовало бы увидеть не только в создании информации, но и в таких «техниках», как двери и плуг, из которых возникает или «изобретается» человек.
Так же, как медиаанализ был технологически осведомленным способом преодолеть психо- и дискурс-анализ, слишком «повернутые на языке», увидеть на месте текстов — технологии знания и педагогические операции, — так и культурные техники призваны стать антропологически осведомленным способом преодолеть исключительную привязку к медиа и материальности коммуникации, увидев их в более широком контексте инструментов, создающих человека. Вместе с тем культурные техники радикализуют попытку Киттлера поставить дело с лингво-археологический головы на историко-технологические ноги — поставить их на твердую германскую почву. В рамках этой попытки уже у Киттлера означающее Лакана — Бенвениста — Соссюра становилось технологически воплощено, а исторические априори Фуко обретали свою техническую материальность.
Наконец, культтехники находятся в довольно близких союзных отношениях с теми посткритическими исследованиями, которые отказываются от критики (например, отчуждения субъекта) в пользу истории практик, исполняемых с помощью инструментов (например, в научных лабораториях). Так, выступая против «коммуникативного разума», самоосуществлению которого мешают (массовые) медиа, немецкий медиаанализ смыкается скорее с американскими посткибернетическими media studies, но и отличается от последних интересом не столько к стиранию границ между человеком и машиной, сколько к обнаружению машинности (техничности) в конструкции человеческой культуры, присутствующей изначально.
Этот ход — называемый уже не антигерменевтическим (как предпочитали исследователи «материальности коммуникации» в конце 1980-х), но постгерменевтическим — резонирует скорее с укоренением (или даже «заземлением») онтологии значения в онтических операциях их передачи и хранения. «Культ техники» здесь не сводится к тому, что производит символическое и удовлетворяет критерию «прагматики рекурсии» в модернизме (письмо о письме, роман о романе), но скорее обнаруживает операторные цепочки в культуре и в технологии, в программном коде и в вещах, наделяя знание материальностью, объекты агентностью (и чуть ли не самосознанием), а всё претендующее на реальность — медиальными условиями и техническими априори.
Медиалогия
Наконец наряду с немецкой медиаархеологией в 1990-е развивается и типично французская медиалогия, основателем и главным представителем которой является Режи Дебре, чье имя регулярно появляется в примечаниях и присутствует в оперативной памяти медиаисследований.
«Манифесты медиалогии» опубликованы в том же году, что и английский перевод «Материальностей коммуникации», второй редактор-составитель которых — Людвиг Пфайфер — как раз предлагает понимать коммуникацию «не столько как обмен значениями, идеями, сколько как перформанс, запускаемый материальностью означающих и встроенный в „аппаратную часть“ (hardware) — техники, технологии, материалы, процедуры и медиа». Он же отмечает, что «„материальности“ могут функционировать как общая метафора для совокупного воздействия институтов и медиа, к которым они прибегают». И такие переговоры между «организованной материей» техники и «материализованной организацией» институтов являются главным напряжением программы медиалогии.

Метод медиалогии в значительной степени обязан собственной политической и институциональной судьбе Дебре. Ранний интерес к прагматике коммуникации был связан с политическим активизмом и организационным опытом, а переход от упоения перформативностью речи к исследованиям материальных и организационных условий ее успешности как будто реагирует на политические разочарования 1970-х. Враждебность к университетскому марксизму и структурализму этого выпускника École Normale Superieur и ученика Луи Альтюссера, в свою очередь, может быть связана с тем, что он получает докторантскую степень только в 53 года. Наконец, убеждение в том, что одного «излучения» (emission) мысли никогда недостаточно и необходимо быть всегда техническим и институциональным организатором этого излучения, указывает на то, что долгое время Дебре приходится создавать инфраструктуру для своих идей (как, например, основанный им в 1996-м журнал Cahiers de Médiologie), а не пользоваться готовой. Словом, прагматику любых актов высказывания Дебре погружает в плотную ткань институциональных принуждений и материальности коммуникации.
Наконец, в отношениях с техникой Дебре оказывается намного меньшим технооптимистом, чем немцы, и уточняет, что никакой концептуальной или моральной драматургии в наследовании медиасфер нет (что было бы технодицеей): научно-технический прогресс остается в порядке фактов, но не ценностей.
Не является Дебре и технодетерминистом и считает, что между появляющимися технологиями и всегда-уже существующими культурными привычками пользователей происходят переговоры, в которых консенсус может и не наступить. Приверженцам герменевтики медиолог предложит понимать интерпретацию как политическую операцию, а апостолам чистого значения — всегда укажет на технические процедуры конструирования значения. Словом, после провала всех революционных надежд медиолог продолжает вести позиционные бои в культуре и эпистемологии. Так, семиологии медиалогия противопоставлена именно как индуктивная наука, скорее следующая конкретным кейсам, нежели конструирующая правила (и чьи результаты, следовательно, не вполне формализуемы). Медиолог — вслед за историком техники — за громкими словами (которым, следовательно, не очень доверяет) всегда ищет социотехнический субстрат, обеспечивающий их действенность.
Точно так же, как мы не воспринимаем того, благодаря чему мы воспринимаем (ср. с формулой Гумбрехта), мы не видим и медиалогистического скелета, который скрывается за памятниками литературы и искусства. Когда мы читаем Вольтера или мадам де Севиньи, думаем ли мы о том, что поддерживает их письмо (сильная центральная власть, обеспечивающая почтовое сообщение, кадровый корпус, наконец, лошадей и, следовательно, конницу) и что делает буколическую литературу требующей вооруженной силы и централизованного государства? А читая роман XIX века, часто ли мы думаем о железной дороге, сети школ и дешевой в производстве печатной прессы, что поддерживают запрос на эту литературную форму? Наконец, Дебре не стесняется задаться вопросом о том, скольким обязан социализм линотипу, очевидно отмечая первые симптомы кризиса его программы на заре эпохи электронных медиа.
Одной из любимых формул Дебре оказывается расширенная и дополненная им пословица «Когда указывают на луну, идиот смотрит на палец», в которой медиолог настойчиво уподобляется именно такому идиоту, который смотрит на этот всегда ускользавший от внимания указующий перст. Если представить себе континуум, связывающий материальность означающего с материальной организацией культуры, то медиалогическое подозрение можно рассматривать как наследующее оптике формального метода, тоже сосредоточенного на не самых очевидных (но и не самых непосредственных) вещах и внимательного скорее к «интенсивным деталям». Внимание формалистов к литературной технике, в свою очередь, оказывается частным случаем исследования «культурных техник», а общая одержимость материальностью коммуникации — расширенным и дополненным изданием формального метода, одержимого материальностью означающего.
Археология коммуникации
В завершение этого обзора стоит сказать еще об одном методе, рисующем более или менее выразительный типаж и расположенном, в свою очередь, между искусствами и науками, а потому с трудом исторически локализуемом и эпистемологически неопределенном. Зигфрид Цилински в недавно переведенной на русский язык книге «Археология медиа. О „глубоком времени“ аудиовизуальных технологий» действительно забирается довольно глубоко в своем археологическом предприятии, но поскольку оно, как он несколько раз оговаривается, одновременно анархеологично (то есть несет в себе щепотку политического фрондерства, но без занудства и обязательств), раскоп выдает довольно смешанную породу или, как это можно в данном случае назвать, фракции каких-то больших и более стройных повествований.

Работая на ниве медиаархеологии с тех же 1980-х годов, Цилински публикует книгу, чей заголовок удачно совпадает с названием дисциплины, только в 2002 году (а ее перевод на английский выходит в 2006-м). Для начала он смешивает науку и магию, очерчивая в качестве зоны своего интереса «инструменты, помогающие нам видеть, слышать и познавать различные природные и иные феномены, а также машины для развлечения», которые, разумеется, существовали задолго до новых медиа и индустриальных коммуникаций. Возможно, как раз чем глубже во времени, тем меньше наука была отличима от магии, чему способствовала и их общая материально-техническая база. Если научная объективность в XIX веке скорее прятала свое «искусство как прием» под кожух, то предлагаемая Цилинским «история технологически базированных искусств», наоборот, педалирует участие разного рода машин и аппаратов в производстве эффектов.
Собственно, под искусством автор понимает и открыто называет «прежде всего искусство, вдохновленное возможностями применения различных медиа <…> и движимое не в последнюю очередь интересом к науке и технике». Если гуманитарные науки XIX века вдохновлялись в первую очередь эпистемологией естественных наук и уже вследствие этого перенимали лабораторную установку и институциональные повадки ученых, то искусства «прежде всего» вдохновляются медиатехниками, а только потом уже оказываются «движимыми не в последнюю очередь интересом к науке».
Как мы уже отмечали в начале, сегодня медиа перестают быть аттракционом — появляются новые, но они тем быстрее переходят в разряд привычных, по мере приближения к сингулярности ускоряется и устаревание предыдущих версий. Всё это значит в том числе, что мы больше не ощущаем сопротивления медиасреды, натурализуем ее и считаем чем-то само собой разумеющимся и, возможно, именно от этого ложного чувства и призваны освободить нас экскурсы в эпохи, когда медиа были новыми, их использование — опасным, рискованным и потому что ли более сознательным. Идея сделать медиа снова ощутимыми не может не напомнить нам формалистский проект возвращения каменности камню, а языку и сознанию — детской свежести.
Точкой входа может, однако, также служить и смерть медиа — как это предлагает dead media project Брюса Стерлинга:
«Отработанное программное обеспечение <…> отброшенные идеи, артефакты и системы из истории технических медиа: изобретения, которые исчезали вскоре после своего возникновения или вели в тупик и в дальнейшем не разрабатывались; модели, которым не удалось до конца пройти стадию разработки».
Так же, как большинство научных теорий, по словам Фейерабенда, не были признаны ошибочными или опровергнуты, а просто были забыты и вышли из моды, так и медиа, неизбежно перестающие быть новыми, уснащают собой культурный слой. В этом смысле медиаархеология дисциплина не только историческая, но и почти филологическая — ведь только «продукты человеческого духа» нуждаются в изучении уже после того, как их время прошло и они остались в прошлом. Поскольку медиа — это техники, то они подвержены прогрессу и устареванию, но если они же — это приспособление, помогавшее человеку видеть, слышать и проводить вычисления, то есть соратники перцептивной и психической активности, то они также достойны изучения, как и романтическая литература или санскрит.
Во всяком случае медиаархеология — дисциплина, неизбывно связанная с субъективным восприятием: если свет давно погасших звезд, регистрируемый современными телескопами, и может быть признан существующим до/без человека, то ископаемые медиа — это всегда слепки с чьих-то способов «видеть, слышать и производить вычисления». В результате такой гибридизации научно-технических артефактов с гуманитарной эпистемологией, однако, и возникает эта версия «глубокой» истории, написанная не с точки зрения победителей или выживших в «неудержимом и якобы естественном техническом прогрессе», а с точки зрения маргиналов и проклятых (медиа)поэтов. Фигуры выхватываются таким методом, конечно, вполне произвольные, если только не считать достаточным парадигмальным критерием саму эту отверженность.