Краткая история малых знаков. Как Жиль Делез с помощью Пруста и Кафки возвращал их к «жизни»
Писатель — почти философ, только вместо концептов он создает персонажей, которые переживают своего автора и начинают ассоциироваться не только с его личностью. Именно поэтому Жиль Делез нередко предпочитал философствовать с помощью литературы. Максимилиан Неаполитанский — о том, как Марсель Пруст погружает читателя в мир знаков и помогает классифицировать время, а Франц Кафка помогает раскрыть освобождающие функции искусства.
Воспоминания — нет, интерпретация — да
В 1964 году Делез впервые со всей полнотой поставил вопрос об искусстве и литературе через подробный и оригинальный анализ прустовской эпопеи «В поисках утраченного времени» и попытался вместе с этим выйти к «практической пользе» своего прочтения, отдалившись от первоисточника и делая несколько шагов в сторону от самого Пруста.
В работе «Марсель Пруст и знаки» Делез значительно изменяет привычную для литературоведения точку зрения. Романы Пруста, которые часто причисляют к «литературе тотального воспоминания», в интерпретации Делеза в первую очередь связаны не с памятью, а с интерпретацией знаков. Об этом Делез говорит в самом начале своего исследования:
Обучение имеет непосредственное отношение к знакам. Знаки являются объектом мирского обучения, а не некоего абстрактного знания. Научиться — это, прежде всего, рассмотреть материю, предмет, существо, как если бы они испускали знаки для дешифровки, для интерпретации. Нет ученика, который не был бы в какой-то мере «египтологом» в чем-либо. Столяром становятся только сделавшись чувствительным к знакам древесины, врачом — к знакам болезни. Призвание — всегда предназначение по отношению к некоторым знакам. Все, что нас чему-либо учит, излучает знаки, любой акт обучения есть интерпретация знаков или иероглифов. Произведение Пруста основано не на демонстрации воспоминаний, а на узнавании знаков и обучении им.
Последняя фраза хорошо демонстрирует то, что можно назвать интерпретацией знаков. Это тот способ, которым Делез ведет войну против пафоса памяти и воспоминаний, заменяя их знаками, устремляя поиски в будущее. Отталкиваясь от этой цитаты, можно назвать важнейшие характеристики «обучения», которые пригодятся для понимания всей книги Делеза.
В первую очередь характеристикой обучения является его конкретность и эмпиричность. Делез говорит о конкретном обучении (он называет его «мирским»). Это обучение известно каждому, однако мы нечасто задумываемся, что оно построено на знаках. Эти знаки — везде и вокруг (знаки древесины, знаки болезни). Конкретность знаков и их эмпиричность связаны с материальностью. В этом выражается отношение Делеза к литературе как к некой «материи», то есть предельно конкретному способу мыслить и выражать это на бумаге. Не случайно он говорит о «египтологии» самой литературы, то есть о том, чем занимается археолог, интерпретируя материальные знаки. Здесь важно сделать оговорку: это не такая археология, которую предлагал Мишель Фуко (археология знаний и условная работа с архивом), а такая, которая направлена на работу с конкретным материалом и, например, со знаками материи, которые описаны в той или иной книге. Именно это и пытается осуществить Делез, анализируя тексты Пруста.
Читайте другие тексты серии
В погоне за философией. Алфавит молодого Жиля Делеза
Карты мыслей и движений. Как Делез стал школьным учителем и заново придумал философию Ницше
На первых этапах чтения мы имеем дело с определенным ассоциативным рядом — конкретность — эмпиричность — материальность, к нему можно также добавить будничность знаков — их постоянное присутствие в нашей повседневности. В то же время Делез усложнил эту «систему обучения» — он разделил знаки на четыре мира, в каждом из которых существует свой тип времени. Эти четыре мира и четыре типа времени составляют важнейшую часть исследования о Прусте, а сама идея знаков, которые сливаются и превращаются в поток, в дальнейшем перекочует в другие работы Делеза. Мы же пойдем по порядку.

Привет, как дела, или Мир светских знаков
Итак, первый мир — это мир светских знаков, или же знаков скольжения. Эти знаки тоже материальны. Их нам нужно каждый раз расшифровывать, когда мы попадаем в общество. Можно подумать, что эти знаки актуальны только для времен Пруста, только тогда, когда существовало реальное светское общество, то есть «выход в свет». Однако и сейчас — при любом общении формального характера, когда человеку нужно достичь некой цели в общении — например, завести полезные связи или кому-то понравиться, — в общем, ему всё равно нужно использовать эти знаки, а также интерпретировать знаки других.
В этом, пожалуй, состоит большое достижение Делеза: из огромной материальной ткани прустовской эпопеи он выводит весьма универсальные ходы и тактики, которые удачно накладываются на жизненный опыт. Мы можем быть уверены — светские знаки есть повсюду, от них тяжело скрыться.
Делез пишет, что светские знаки возникают в качестве заместителя действия или мысли. Они действуют как некая пустота, которая заполняется скольжением, причем очень быстрым («поверхностное общение»). Главный вопрос при работе со светскими знаками — это вопрос о том, почему кто-то оказывается принят в том или ином кругу, а кого-то принимать перестают? Описание светских знаков интуитивно понятно, однако Делез добавляет к нему важное уточнение: можно не думать и не действовать, но всё равно производить светские знаки. Такое производство возможно исключительно со светскими знаками. Формальное общение без содержания — игра по правилам общества, в котором ты действуешь.
Разочарование и невзаимная любовь: мир любовных знаков
Следующий, второй мир знаков — это знаки любовные, с ними такое формальное скольжение уже невозможно.
Пустота в любовных знаках должна быть обязательно заполнена — чем угодно, например ревностью. Делез говорит, что субъективная часть любви и, соответственно, ее знаки необходимо и почти всегда имеют связь с ревностью. Ревность, в свою очередь, работает намного сильнее и масштабнее, чем наша возможность интерпретации любовных знаков. Иначе говоря, ревность представляет всегда очень широкое поле для расшифровки и подстановки. Причина этому в том, что человек, который эту ревность предъявляет к другому, одновременно является и ее источником. Ревнующий субъект любой знак может принять за правду, за чистую монету, за факт измены или за невнимание к себе. Подтверждение этому можно легко найти и в повседневном опыте: когда мы сталкиваемся с ревностью, у нас не оказывается никаких способов отхода, мы полностью теряемся. Все выходы заблокированы, так как ревность идет дальше в улавливании и интерпретации знаков, по словам Делеза, она — конечная цель любви и ее предназначение.
В этом, конечно, скрывается некоторый парадокс, особенно если не учитывать то, что Делез ревность и любовь не противопоставляет, а наоборот — сводит их. По его мнению, оказывается, например, что расшифровка любовных знаков может разочаровать человека, потому что вскроется, что эти знаки лживы (но не пусты, как было со знаками светскими). Их лживость направлена на бессмысленное возбуждение человека: нужно его завести, а потом оставить ни с чем. Это почти всегда заканчивается плачевно, даже несмотря на то, что поначалу любовные знаки могли представляться субъекту удивительно сложными, быть для него настоящими иероглифами любви (как называет это Делез).
Тут явлена мука великого «глубокого постижения», когда эта глубина ни к чему не приводит: глубокое или близкое общение с человеком, который изначально казался очень интересным, так как посылал соответствующие знаки, в итоге сулит разочарование.
Делез выводит интересную формулу, своего рода девиз, который может стать альтернативой процесса «неприятной» расшифровки. Влюбленный должен постоянно повторять одну фразу: «любить, не будучи любимым». Мы сталкиваемся с этим при чтении Пруста и в некоторой степени в своем собственном опыте.
Девиз «любить, не будучи любимым» является альтернативой процессу взаимного столкновения знаков, которые посылаются с двух сторон. Такая альтернатива призвана уберечь нас от разочарования — нужно, чтобы только одна сторона посылала знаки, чтобы любил кто-нибудь один, покупаясь на ложные знаки. Когда одна сторона будет хорошо работать, это поможет избежать главной проблемы или «главного качества», которое Делез находит у Пруста, — это поможет избежать разочарования. Делез так и пишет:
Разочарование — центральный момент и поисков и обучения: в каждой области знаков мы разочаровываемся, когда предмет не раскрывает ожидаемую нами тайну. Само разочарование — многообразно, оно варьируется в зависимости от линии обучения. Мало что не вводит в заблуждение при первом контакте.
Также Делез различает любовь и влюбленность. О влюбленности он говорит совершенно иначе — в более позитивном ключе. Влюбиться, по Делезу, означает индивидуализировать человека посредством знаков, которые он несет или излучает. Это постепенное высвечивание, которое показывает черты, манеру, жесты, интонации — приобщаясь к ним, мы обучаемся.
Делез расширяет свою трактовку любви и влюбленности. Он говорит, что всё любимое существо, объект обожания целиком может являться знаком, который предстоит расшифровать.
Тот, в кого мы влюблены, выражает некий «возможный мир», новый мир, совсем незнакомый нам. Из-за наличия этого возможного мира столь легко влюбиться в человека не из нашего круга, не из нашего мира (и это, конечно, работает не только с эпопеей Пруста). Делез по этому поводу говорит следующее:
...мы легко влюбляемся в женщин не из нашего «мира», они могут даже не принадлежать нашему типу. Поэтому-то любимые женщины часто связаны с пейзажами, которые мы помним только для того, чтобы желать их отражения в ее глазах. Но и пейзажи отражаются так таинственно, что предстают перед нами как неизведанные и недоступные страны: Альбертина свертывает и заключает в себе, соединяет «пляж и прибой волн». Как могли бы мы еще достичь пределов, где пейзажи — это уже не то, что мы видим, но, напротив, то, где видят нас? «Если она меня видела, чем я мог ей представляться? Из недр какого мира она на меня смотрела?»
Человек будто скрывает в себе неизведанные и недоступные страны, возможные миры, в которые всегда хочется «провалиться», испытывая чувство влюбленности и расшифровывая его самого и его знаки.
Я ощущаю, но не до конца, или Мир чувственных знаков
Третий мир, мир чувственных знаков, Делез называет недостаточными и неполными. Опять же они не похожи на два предыдущих типа знаков — на знаки светские, то есть пустые, или на ложные знаки любви. Чувственные знаки являются не теми и не другими. Их недостаточность заключена в том, что, несмотря на одаривание нас несказанной радостью при общении, к своему источнику, к источнику этой радости они никогда не приближают полностью. В этом скрыта их материальная реальность, способность отсылать, но не воспроизводить. Чувственный знак будто бы отсылает к сущности реальных явлений — семейный праздник, поездка на море, романтическое свидание, — но при этом не работает с памятью.
Если определять чувственные знаки еще проще, можно сказать следующее: чувственный знак — это прямое касание кожи, конкретный запах, движение глаз, поцелуй или объятия, которые вновь и вновь позволяют открыть доступ к тем слоям материального мира, к которым мы доступ, казалось бы, уже потеряли — забыли.
Нельзя сказать, что я посмотрел на фото или прочитал запись и вспомнил прошлогоднее лето, лесное озеро в деревне или запах цветущих лип в мае. Нет, Делез устраняет память из мира чувственных знаков, для него чувственный знак — это прямая реакция, это ссылка без изначального текста, без изначальной материи, однако с открывающимся доступом. Например, если вас касается рукой возлюбленный или возлюбленная, то это образует серию ассоциаций из чувственных знаков со всеми касаниями такого рода, но это не значит, что касание в настоящий момент более реально, чем все остальные. Здесь в любом случае не дойти до полноты, до изначального, первого касания (первого запаха, первого взгляда и т. д.), и именно в этом кроется недостаточность чувственных знаков.
Конец и начало знаков искусства
Теперь можно перейти к миру знаков искусства, самому важному для Делеза и для Пруста. Знаки искусства являются самыми нематериальными из всех возможных. Их нематериальность состоит в том, что для всех других знаков они создают основу, в прямом смысле конструируют остальные знаки и настраивают их на определенный лад. В связи с этим Делез наделяет их такой важностью:
...проблемы Искусства <...> позволили теперь интерпретатору пойти дальше и получить разрешение. Таким образом, мир Искусства — последний мир знаков; и эти знаки, как дематериализованные, обретают свой смысл в идеальной сущности. Отныне открытый мир Искусства воздействует на все другие и в особенности на чувственные знаки; он их интегрирует, окрашивая эстетическим смыслом и проникая в то, что еще непрозрачно.
В этой цитате мы также видим противопоставление сущностей идеальных и материальных. Они, как и все другие «сущности» и знаки, тоже связаны с обучением. Обучение материальным знакам одновременно означает и обучение знакам идеальным, которые производит искусство. В этом смысле мир знаков искусства является всеобщим — чем бы ни занимались, в каком бы мире ни действовали, в итоге мы всё равно придем к знакам искусства. Через них материя открывает доступ к идеальному. И вновь тут осуществляется некий процесс отсылок и ассоциаций. Знаки искусства дают Делезу возможность сделать важный шаг в развитии метода анализа художественных текстов: теперь литературный герой рассматривается как ученик, как тот, кто учится и интерпретирует знаки без апелляции к памяти. Путь литературного героя начинается со знаков искусства и ими же заканчивается, в промежутках нет места воспоминаниям, его главная цель — интерпретация.
К такому выводу приходит Делез, когда говорит о Прусте с точки зрения этой системы — системы четырех миров знаков, однако вместе с этим он усложняет ее, добавляя к ней различные виды времени.
В каком времени мы живем?
Обучение Пруста приводит к тому, что можно назвать истиной, которая явлена во времени. Она всегда темпоральна, она всегда в будущем — в будущем обучении. Истина Пруста, по утверждению Делеза, носит окрас времени — например, обучения, которое может длиться четыре года или всю жизнь. Однако тут же встает вопрос: если герой так упорно учится — а обучением является почти всё его существование, развернутое в некотором материальном пространстве, то откуда берется то самое «утраченное» или «потерянное» время? Делез на этот вопрос тоже отвечает, но опять же — очень своеобразно. Чтобы лучше понять эту своеобразность, как раз и были нужны все четыре мира знаков. Потому что за каждым из них кроется свой вид времени. Делез вводит дополнительную классификацию — классификацию временных структур.
Время, которое теряют, соответствует миру светских знаков. Эти знаки пусты, они работают на скольжении. Попадая в светское общество, человек может потерять свою значимость, если он неинтересен. Можно представить ситуацию, когда происходит какой-то относительно светский разговор и время теряется, потому что на пустой светский вопрос может быть дан только пустой ответ. «Да, я читал или видел это, мне очень понравилось, это очень изысканно». Или более простая ситуация: знакомый, с которым нет желания общаться и который спрашивает: как дела? Вы отвечаете, что всё хорошо, всё в порядке — в общем, схема здесь всегда одна, она повторяется и не представляет большого интереса. И даже разговор о светских знаках сам по себе является в некоторой степени временем, которое теряют (но это важно для Пруста, поэтому было необходимо об этом сказать).
Утраченное время соответствует миру знаков любви. Важно понять различие между временем, которое теряют, и утраченным временем. Первое время представляется неким процессом, именно утечкой времени, бессмысленным скольжением. Время же утраченное — это конкретное состояние, которое не случайно связывается со знаками любви. Например, когда происходит коммуникация между влюбленными, в этом может присутствовать некий трагизм, тоскливость, обреченность. Почему? Делез отвечает: потому что первое касание кожи уже никогда не повторится, любовная машина никогда не начнет работать так, как она работала раньше, и останется только вот это утраченное время, которое никогда нельзя будет повторить. Но повторения очень захочется, и в этом и будет явлен весь трагизм происходящего: нельзя вновь испытать «первую любовь». По Делезу, любовные знаки — это исключительно утраченное время. Утраченное всегда, всегда становящееся утраченным без возможности повторения первичных ощущений.
Время, которое обретают, существует в мире чувственных знаков. Здесь логика Делеза уже не так очевидна. Это, вероятно, сложно вывести эмпирически из частного опыта, но чувственные знаки — это знаки материальные, мы берем их как ощущения, как чувствования и как то, что имеет непосредственную корреляцию с материальным миром, что позволяет нам этот мир обретать, получая к нему доступ. Здесь уже несложно догадаться, что вместе с этой материальностью обретается и время. Оно складывается из кусочков ощущений, из вкуса печенья из детства, из запахов дома, в котором вы росли. Это соотношение носит такой характер: здесь чувственные знаки равны дискурсу времени, которое обретают, в процессе добавляя к себе в копилку, коллекционируя его как ценные вещи.
И наконец, последний тип времени — обретенное время, или же время абсолютное. Оно связано со знаками искусства, которые все другие знаки определяют и настраивают в плане их дематериализации и приведении к идеальным сущностям. Потому что если мы имеем знак любви, знак чувства или какой-нибудь еще — всё это может быть запечатлено в знаках искусства и том дискурсе времени, которое они в себе несут. Например, это как написать книгу — роман, эпопею о своей жизни.
В связи с этим, пожалуй, будет вполне оправдано воспринимать эпопею Пруста в интерпретации Делеза как один большой знак искусства, как обретенное время.
Оно соединяет в себе всё остальное, создавая единую литературную машину по переработке знаков, обучению этим знакам, а также направленную на поиск истины, которая всегда существует в будущем. В этом Делез находит главный урок Пруста — урок об обращении к будущему и заключении своей жизни в мир знаков искусства.
Делез не дает прямого ответа на вопрос «что такое искусство?» или «что такое литература?», однако с помощью системы знаков и четырех видов времени приводит читателя к пониманию того, что искусство может быть представлено не только в текстах, но и повсюду — в материальных вещах, в нашей повседневности, в простом человеческом общении. Нам остается только выбрать нужную оптику, чтобы суметь разглядеть и обучиться тем знакам, с которыми мы имеем дело ежедневно. И уже отталкиваясь от этого, заниматься проблемами литературы — их расшифровкой.
Знаки идут дальше
Можно кратко сказать о том влиянии, которое работа «Пруст и знаки» оказала на другие книги Делеза. Это влияние было немалым. Как замечают некоторые исследователи, «именно прочтение Пруста дает ключ к мысли Делеза, потому что то, что позднее появится в качестве абстрактного тезиса в „Различии и повторении“, — находит в прустовском нарративе самое ясное выражение и объяснительную схему, указывающие на то, что это различие предоставляет повторению объект. Повторение всего-навсего получает свою степень различия. Именно различное должно повторяться, и об этом на протяжении сотен страниц рассказывает Пруст». Знаки повторяются, но с каждым повтором они становятся иными (на этом принципе Делез будет строить свою онтологию различия, постепенно отходя от знаков к более абстрактным моделям).
Сильно упрощая, можно привести такой пример: человек, который вам нравится, каждый день подает вам определенный набор знаков (флиртует, намекает, заигрывает) — этот набор повторяется, но при всём этом каждый день человек одевается по-разному, у него изменяются эмоции, настроение, меняется погода, и это наделяет знаки различием, несмотря на повтор.
При каждом повторе набор остается прежним и в то же время обновляется, различается. Обнаруживая это у Пруста, Делез проводит эту линию дальше — в другие работы, в которых, однако, вопрос об искусстве литературы не будет ставиться так остро и первостепенно.
Может быть интересно
«Многознание уму не научает». Как перестать собирать факты и начать мыслить
Решительное экзистирование Мартина Хайдеггера: как перестать беспокоиться и начать умирать?
От Пруста к Кафке, искусство и материя
«Что такое искусство», Делез вновь спросит уже в книге 1975 года, которая будет посвящена другому писателю — Францу Кафке. Эта книга — «Кафка: за малую литературу», небольшая по объему, написанная в соавторстве с Феликсом Гваттари, стала своеобразным промежуточным этапом их работы между двумя фундаментальными томами «Капитализма и шизофрении», что придает ей концентрированности и концептуальной плотности. В этой книге можно найти множество параллелей с книгой о Прусте, хотя их и разделяет чуть больше десяти лет. Например, в обеих работах присутствует материальное понимание искусства, то есть понимание искусства как того, что определяет материю, приводит ее в движение, устраняя разделение на «материальное» и «духовное». Как пишет Делез, как бы озвучивая призыв от лица искусства, «приводите в движение материю, призывайте материю. Искусство — это зеркало, которое, порой, спешит как часы». В этом случае это касается не только литературы. Материальные «явления» — эмоции, происшествия, случаи, события, предметы — всё это может запечатлеть искусство, и в то же время оно оказывает влияние на это: например, оно приводит в движение наше тело, заставляет его содрогаться — когда мы смотрим на удивительную картину и по телу бегут мурашки, или когда смерть любимого персонажа в книге аффектирует не меньше, чем смерть реального человека. Тут схожая с Прустом ситуация: происходит обучение материальным знакам с помощью искусства (обучение материальным знакам одновременно означает и обучение знакам идеальным, которые искусство производит).
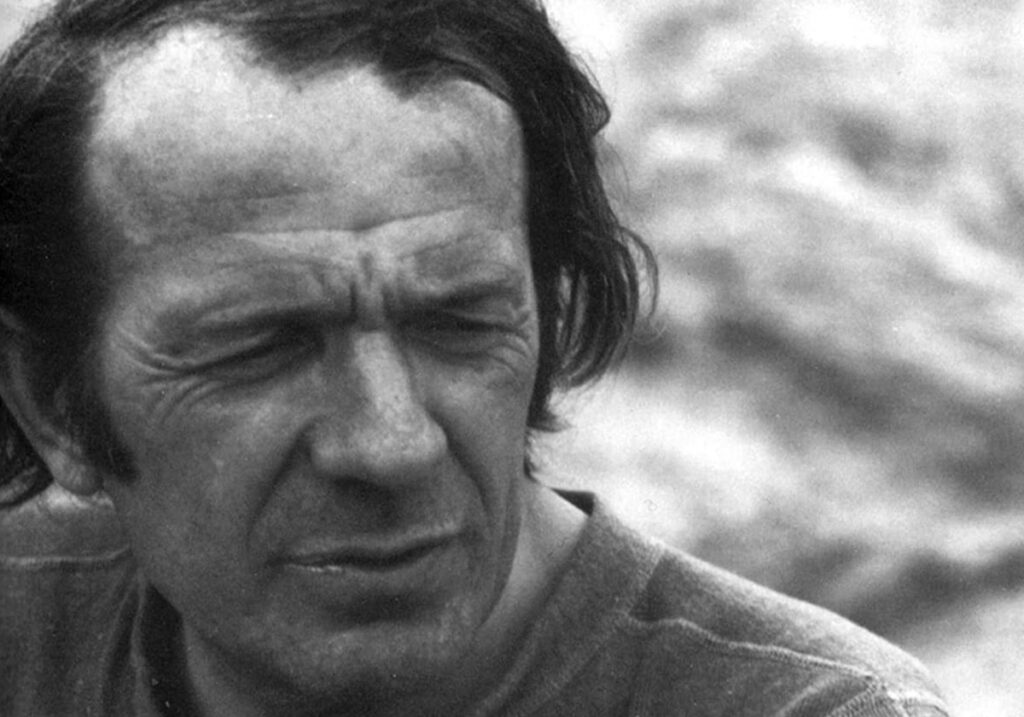
Кафкианское ускорение и ускользание
В то же время Делез говорит, добавляя еще одну характеристику искусства помимо его материальности: искусство спешит и ускоряется, и за счет этого открывает новые линии ускользания. Искусство — это всегда искусство быстро думать, искусство «проходить сквозь стены, не задевая их головой». Поэты и писатели всегда работают с определенными набором скоростей. Сами же линии ускользания представляют собой «пути сокрытия», траектории побега, благодаря которым можно уйти от репрессивной машины государства или от машины «большой литературы». Этим Кафка и занимается, в этом и состоит его искусство ускользания: он создает малую литературу внутри большой. Сам Делез поясняет это так:
Тот, кто имел несчастье родиться в стране большой литературы, вынужден писать на ее языке, также как чешский еврей пишет по-немецки, или как узбек пишет по-русски. Пишущий подобен собаке, копающей свою ямку, крысе, роющей свою нору. А для этого найти свою собственную точку отсталости, свой собственный диалект, свой третий мир для себя, свою пустыню.
Точка отсталости — вот что занимает малое искусство и малую литературу — поиск этой точки, поиск своей собственной провинции.
Действуя с периферии, малая литература способна создавать новые зоны интенсивности и революционности — писатель или художник в этом контексте будто бы становится частью невидимой боевой ячейки, частью революционного народа.
Он незаметно готовит свой собственный художественный «теракт», чувствуя свою принадлежность к «коллективному высказыванию». Кафка заброшен в немецкий язык и как художник должен с ним что-то сделать: полностью принять или переработать, устранить или ускорить до невероятных режимов выражения. Кафка — выразитель всех пражских евреев, которые тоже закинуты в немецкий язык и которые тоже чувствуют себя обделенными и изгнанными. Делез напрямую говорит об этом, цитируя дневники Кафки: литература — это дело народа.
Положение «на краю» дает любому автору возможность отделиться от своего «хрупкого сообщества» и перейти к другому: «...такое положение позволяет ему в еще большей мере выражать другое потенциальное сообщество, выковывать средства для некоего другого сознания и некой другой чувственности». Другая чувственность находится на периферии, там же находится и интенсивность — интенсивность как внутреннее напряжение, как возможность «сильного» выражения и производства сильных аффектов (эмоций, впечатлений), которые захватят зрителя, читателя или слушателя. Делез как бы рисует такой процесс: уйти от столицы к периферии, уйти к границам большого искусства и продолжить действовать там, говоря от лица малого народа. Чтобы уйти от центра к периферии, нужны линии ускользания. В этом контексте Делезу точно бы понравились строчки из стихотворения Бродского: «Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». Жить в глухой провинции и заниматься творчеством, производством — будь то производство концептов, литературных героев или картин.
Несмотря на то, что сам Делез большую часть жизни провел в Париже, можно предположить, что на практике этот принцип он тоже реализовывал, отдаляясь от университета, от коллег, от бюрократии, от официальной («большой») философии, представленной на конференциях и конгрессах, а также стараясь быть «частным мыслителем» (в этом он брал пример с Сартра).
Переосмысляя искусство и литературу в категориях интенсивности и величины (большого и малого), Делез также затрагивает проблему выражения и содержания. По его мысли, в малой литературе выражение главнее содержания, именно выражение дает свободу высказываний и желаний: «выражение опережает или движется вперед, именно оно предшествует содержаниям, либо чтобы предвосхитить жесткие формы, в какие те собираются отлиться, либо чтобы заставить их удирать по линии ускользания или трансформации». Содержание же определяется Делезом как «блокированное, угнетенное или угнетающее, нейтрализованное желание с минимумом соединений и с детскими воспоминаниями».
Выражение является желанием, которое поднимается или уклоняется, открываясь новым соединениям. Выражение — «союзник» интенсивности, по Делезу, это справедливо для всех изящных искусств. Его обращение к Кафке в этом контексте не случайно: «Никто лучше, чем Кафка, не смог определить искусство или выражение без какой-либо ссылки, в чем бы та ни состояла, на эстетику». Делез пытается избавить искусство и выражение от «эстетического» понимания, от категорий, которые, сильно упрощая, можно назвать «чистым искусством», чистым мастерством чего-либо — большие художники большого таланта, гении и т. д. Всё это выходит за рамки делезовского анализа.
Искусство и выражение пребывают в поле самой жизни — социальной, политической и повседневной. Искусство — это искусство интенсивностей, искусство жизни, искусство действовать и ускользать.
Кафка как писатель стремился реализовать это через письма, новеллы и романы, создав свою литературную машину. Можем рассмотреть это подробнее.
Как говорит Делез, письмо — это ризоматическое, то есть (опять же) лишенное центра выражение писателя малой литературы Франца Кафки. Оно лишается центра из-за того, что письма несут в себе дуальность субъекта высказывания и субъекта высказываемого: письма всегда хотят «высказывать». Они должны быть высказаны (это можно сравнить с невозможностью замолчать), они всегда написаны с желанием или сами этим желанием являются. Еще Делез к этому добавляет, что в случае Кафки письма могут использоваться как «громоотвод для чувства вины» (тут можно вспомнить письма Кафки к отцу). Если вновь сравнивать Кафку и Пруста, то письма Пруста, напротив, характеризуются всегда доминированием субъекта высказываемого, там всё время подчеркивается, что у автора больше нет желания их писать, это желание заменяет активное выражение чувства вины и страха.
Кафка жил и экспериментировал от своего имени, — это извращенное, дьявольское использование письма. «Дьявольское во всей невинности», как говорит Кафка. Письма прямо и невинно устанавливают дьявольскую мощь литературной машины. Замышлять письма: это вовсе не вопрос искренности или ее отсутствия, но вопрос функционирования. Письма к той или иной женщине, письма друзьям, письма отцу: тем не менее, на горизонте писем всегда есть женщина, именно она подлинный адресат, женщина, которую отец, как считается, заставил его потерять, та, с которой поздравляют его друзья, с которой он порвал, и так далее.
Второй элемент его литературной машины Кафки — это новеллы. Новеллы представляют собой анималистичное — животное выражение малой литературы, в котором главным является становление человека животным или животного человеком. Именно животное у Кафки по преимуществу совпадает с темой новеллы, через животное он также пытается найти выход, прочертить линию ускользания.
Делез уверяет, что в становлении-животным нет ничего метафорического, нет никакого символизма, никакой аллегории. Это не результат ошибки или проклятия, не следствие какой-то вины. Скорее становление-животным — это один из способов творчества, а также одна из его тем. Через становление-животным в литературу еще и входят новые интенсивности, связанные с анималистической витальностью.
Делез приводит множество примеров таких новелл:
Как если бы животное было еще слишком близко, слишком воспринимаемо, слишком видимо, слишком индивидуально... — с самого начала становление-животным стремится к становлению-молекулярным: Жозефина — мышка, погруженная в свой народ и «с сонмом наших героев»; собака, озадаченная перед сутолокой семи музыкальных собак во всех смыслах-направлениях; животное «Норы», нерешительное перед тысячью звуков, исходящих, несомненно, от более мелких животных и идущих со всех сторон; герой новеллы «Воспоминания о дороге на Кальду» пошел охотиться на медведей и волков, но нашел только стаи крыс, которых убивает ножом, разглядывая, как они сучат ручонками.
И наконец, третий элемент литературной машины — это романы. Делез выводит не одно правило, по которому Кафка либо разворачивает текст в роман, либо не заканчивает его вообще. Также Делез ставит важный вопрос: что заставляет Кафку проектировать роман? Или, отказываясь от задуманного, отложить роман либо попытаться завершить его как новеллу? Или, напротив, сказать себе, что, возможно, новелла может быть новым началом романа, даже если от него тоже отказываешься? Эти вопросы одновременно становятся и главной характеристикой для романов Кафки — их можно перекрещивать между собой, не заканчивая или разворачивая. Роман связывает собой разные коллективные высказывания, разные голоса, и если, например, в одном романе уже есть сборка из коллективных высказываний, то заканчивать другой с таким же набором высказываний для Кафки не имеет смысл (как это было с текстом «В исправительной колонии» и «Исследованием одной собаки»).
У Кафки много причин отказаться от текста, либо потому, что тот резко меняет направление, либо потому, что он нескончаем: но критерии Кафки совершенно новы и применимы только к нему, с взаимодействиями одного жанра текста с другим... Каждая неудача — шедевр...
Все элементы составляют литературную машину Кафки, с помощью которой он действует, ускользает и производит своих персонажей. Опять же — это искусство интенсивностей, возможности находить их и черпать из писем, новелл и романов. Во многом письма, новеллы и романы — это не только литературная машина Кафки, но и он сам, его жизнь, увиденная через призму текстов.
Какое же всё-таки искусство у Делеза?
Описание как литературы, так и искусства в целом, переходя из работы в работу, наполнялось разными смыслами. От ранних работ к поздним эти смыслы трансформировались, но выстраивались всё-таки примерно по одной линии понимания. Делез понимает искусство и литературу в первую очередь через жизнь и материальность. От них он отталкивается и идет к другим характеристикам. От жизни исходит понятие интенсивности, от материальности — понятие конкретности. Всем этим наполнено искусство, однако оно не заканчивается только на этом. И Пруст, и Кафка показывают, какой может быть литература и искусство. Чтобы это увидеть, Делез подходит к ним как к мыслителям, извлекая множество концептов и делая их своими союзниками, синтезируя искусство и философию, которые сходятся в своих определениях: они заняты поиском новизны, они заняты жизнью.
