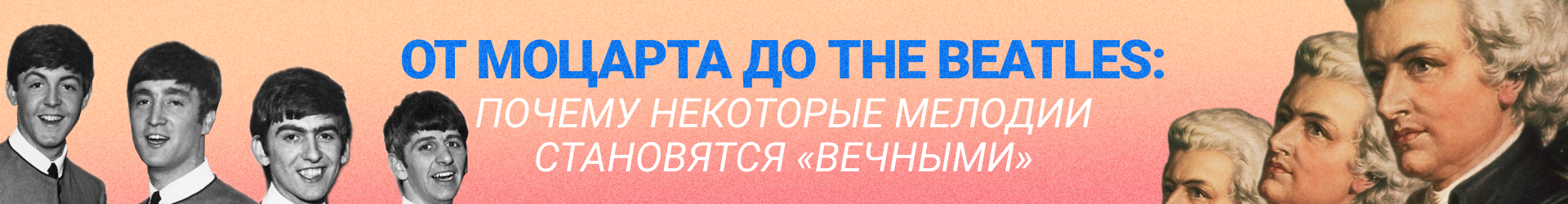«С суждения глаза всё начинается и им всё заканчивается». Искусствовед Кирилл Светляков — о крупнейшем представителе метода знаточества Максе Фридлендере
Когда в XIX веке художественные собрания стали открываться для публичного осмотра, возникла необходимость в человеке, который мог бы исследовать произведения, систематизировать собрания и составлять каталоги. Так возникла специальность знатока-музейщика, который обязан не просто хорошо разбираться в истории искусства, но и обладать определенными навыками для выявления характерных признаков авторства конкретного произведения. Подобный метод атрибуции связан исключительно с интуицией и зрительной памятью искусствоведа. Одним из самых известных представителей метода знаточества был немецкий исследователь искусства Макс Фридлендер (1867–1958), чей труд «От ван Эйка до Брейгеля. Этюды по истории нидерландской живописи» (1916) недавно вышел на русском языке в издательстве Rosebud. Это сборник эссе про знаменитых представителей Северного Возрождения. О том, чем ценен метод знаточества, почему Фридлендер не хотел раскрывать секреты своего подхода и как происходит переатрибуция работ мастеров уровня Босха и Караваджо, искусствовед Мария Мороз поговорила с переводчиком книги Кириллом Светляковым, научным сотрудником и куратором Третьяковской галереи.
— У кого возникла идея перевести книгу Фридлендера на русский язык?
— У меня. Когда я был аспирантом и подолгу сидел в библиотеках, мне попалась книжка Фридлендера «Подлинник и подделка» на немецком языке. Она очень легко читалась, и я ее быстро перевел для себя. Она была для меня эдаким катехизисом, я готов был подписаться под каждой строчкой. Впервые перевод отдельных глав этой книги был опубликован только в 1998 году в журнале «Пинакотека».
Под впечатлением от «Подлинника и подделки» я решил взяться за перевод «От ван Эйка до Брейгеля». Тогда я вообще интересовался всем на свете. Перевод занял месяца три-четыре, но потом долго редактировался. Мы поделили работу над книгой с Еленой Суржаниновой, искусствоведом, которая тоже училась в МГУ. Елена тоже заинтересовалась Фридлендером. Конечно, мы не были профессиональными переводчиками. Это сейчас у меня есть какой-то опыт: в двухтысячные годы мне приходилось много заниматься коммерческими переводами.
— Получается, перевод был сделан больше 20 лет назад? Ведь еще в 2002 году вышли отдельные части этой книги.
— Да, они вышли в журнале «Вопросы искусствознания» в 2002 году. Там было всего несколько глав. А сам перевод был сделан еще в 2000 году.

— Почему тогда книгу так долго не публиковали?
— Первый издатель искал грант для публикации этой книги, но в итоге ничего не получил и не издал. Чтобы добро не пропадало, мне показалось, что нужно опубликовать хотя бы отдельные главы в журнале, в качестве утешительного приза. А затем пришлось ждать еще 20 лет, потому что такого рода инициативы не всегда подхватываются издательствами, у которых есть свои программы. К тому же у меня было много своих дел. Время от времени я вспоминал о переводе, кому-то предлагал его. Несколько лет назад я читал лекции для образовательного портала «Магистерия», там заинтересовались книгой. В результате мы выпустили перевод в их издательстве Rosebud.
— В научной среде вас знают, как сотрудника Третьяковской галереи, специалиста по русскому искусству ХХ века. При каких обстоятельствах вы стали заниматься нидерландским искусством XV–XVI веков?
— Это было в конце 1990-х. Я закончил университет, но четко определившихся научных интересов у меня не было. А нидерландское искусство я давно любил, и уже начал смотреть его в музеях. Плюс я учил немецкий в Гете-Институте в течение нескольких лет, а в 2000-м получил грант DAAD на исследования в Университете Гумбольдта. Поэтому перевод книги я воспринимал тогда как такой фан.
Хотя я специалист по ХХ веку, но и Фридлендер — это тоже ХХ век. Меня привлекло, как он работает с художниками, что обращается с ними как художественный критик. Этот подход мне очень импонировал, потому что кругом было камлание на гениев и шедевры без какой-либо критики наследия. Нам в университете вообще говорили: «Чего их критиковать?»
— Нам тоже так говорили. А Фридлендер готов низвергать самых именитых мастеров.
— Без критики, без оценки мы не можем работать. Наш взгляд не оживает, если мы не понимаем, чем хорошая работа отличается от плохой, даже когда мы говорим о творческом наследии одного художника.
Когда я в переводе познакомился с книжкой Роберто Лонги «Краткая, но правдивая история итальянской живописи», я был шокирован степенью разнузданности его критики. Фридлендер по сравнению с ним очень деликатен. Лонги в 1920-е годы вел себя как панк по отношению к Джотто, Микеланджело.
В его книге есть просто хамские комментарии, но они живые!
И Лонги, и Фридлендер были в первую очередь экспертами, они занимались атрибуцией произведений, но их подход сродни подходу арт-критика. К тому же это были люди рубежа веков, наследники литературной традиции письма об искусстве, поэтому они пишут в эссеистической манере. Сегодня ученые-искусствоведы, как правило, воздерживаются от такой формы изложения, потому что им кажется, что это не наука, а кулуарная болтовня. Но то, как Фридлендер работал с классиками нидерландского искусства, мне помогает работать уже непосредственно с художниками моего круга интересов и исследований.
— Каким образом?
— Ты пытаешься выстроить определенную психологическую гипотезу. То есть стремишься за произведениями того или иного автора увидеть человека и прочувствовать его, представить ход его мысли, интересы и увлечения. Фридлендеру свойственен психологический подход, он помогает ему быть в чем-то раскованнее, поэтому он может позволить себе выдвигать гипотезы. Далеко не все ученые готовы пойти на такой шаг: обычно если художник чего-то не произнес, исследователь даже не будет предлагать свою версию. Такое искусствоведение я считаю ленивым, оно совершенно не продуктивно, потому что строится исключительно за счет бесконечного цитирования художников.
— А Фридлендер позволяет себе говорить, что результат у художника превзошел намерение. И это в контексте искусства XV века, когда мы не то что о намерениях не можем судить, у нас вообще биографии авторов изобилует пропусками.
— Он работает с авторами, которые не оставили комментариев. Но его живой взгляд критика помогает представить, как работал автор. Когда смотришь в книжке репродукции, не задумываешься, насколько эти вещи, принадлежащие одному автору, не похожи друг на друга. Многие из них просто не подписаны.
Фридлендер свел разрозненные произведения в единый корпус работ.
Например, тот состав произведений, который сегодня приписывается Хуго Ван дер Гусу, — это результат работы Фридлендера, хотя многие из них не похожи друг на друга. Где-то ты ему доверяешь, а где-то уже думаешь, что это лишь гипотеза.
— Фридлендер в этом сборнике постоянно дискутирует с невидимой фигурой Карела Ван Мандера (1548–1606) — автором книги о художниках, эдаким нидерландским Вазари. В тексте он часто упоминает, что некоторые датировки, которые обозначил Мандер, неправильны. В таком случае интересно, были ли опровергнуты атрибуции уже самого Фридлендера?
— Такое было с Босхом. Те вещи, которые значится у Фридлендера как босховские, позднее были переатрибутированы как произведения его последователей. Например, было доказано по технике и материалам, что «Семь смертных грехов» из музея Прадо сделаны позже. В этом же музее находятся еще две работы на тему «искушение Святого Антония», которые долгое время считали босховскими. Голландский исследовательский проект Bosch Research Conservation Project опроверг эту атрибуцию, и теперь многие даже удивляются: как этого можно было не видеть? Но музей Прадо отказался отписывать авторство Босха. Одним из их аргументов было то, что Фридлендер — великий эксперт, и они к нему прислушиваются.
— А сам метод, который использует Фридлендер, знаточество, не устарел ли он со временем? Ведь он основан исключительно на зрительном опыте эксперта-искусствоведа. Этот метод не имеет какого-то готового плана, в отличие от формально-стилистического анализа Вельфлина, в котором используются пять категорий. Когда читаешь эссе Фридлендера, невозможно не заметить, что у автора нет единой структуры. Иногда он очень подробно описывает работы, в другом случае пишет лишь «я сомневаюсь в этой атрибуции», но не объясняет, что вызвало сомнения.
— В заключении я попытался обозначить, что суждение глаза очень ценно и сегодня: с него все начинается и им все заканчивается. Современные технологические методы весьма продвинулись, но когда мы имеем дело с картиной, например, первой половины XV века, часто бывает так, что стиль похож, но художник другой.
Я переводил еще одну книгу — «Роскошный часослов герцога Беррийского» двух медиевистов Йоханнеса Ратхофера и Казеля Раймона. Это очень авторитетные авторы, но их попытки дифференцировать, кто из трех братьев Лимбург что нарисовал в одной миниатюре — это все вилами по воде писано.
Или, например, когда я посмотрел выставку «Время Караваджо» из коллекции Роберто Лонги, в ней я увидел весьма сомнительного Караваджо! Лонги, конечно, был более авантюрный, чем Фридлендер, и если он прочел у Вазари, что есть иконы Джотто, то он их и нашел! Смотришь и думаешь: «Человек захотел сделать открытие — и он его сделал своими руками».
— Метод знаточества напоминает знаменитую историю с Игорем Грабарем, когда он атрибутировал «Звенигородский чин» как работу иконописца Андрея Рублева, ориентируясь только на свой профессиональный взгляд. Потом выяснилось, что это даже не круг Рублева, а творение приезжих мастеров очень высокого уровня. Несмотря на этот факт, сегодня продолжают появляться исследования, авторы которых утверждают, что это рублевский чин. То есть для многих атрибуция Грабаря — это своего рода печать верности. И далеко не каждый музей готов признать переатрибутированные работы, как это и произошло с Прадо.
— Да, музей не готов на это пойти, если только это не какой-то вопиющий случай. Когда дело касается старых картин, скорее всего, это будет исключительно кулуарное обсуждение. Но рано или поздно к работам, вызывающим сомнения, отношение все равно изменится: вещи, которые ранее приписывались Босху и Брейгелю, сегодня уже не воспринимаются как босховские или брейгелевские.

— Почему Фридлендер не хотел описывать, как он работает?
— Он не хотел, чтобы его донимали по поводу набора атрибуционных признаков. То, чему можно обучить, зарабатывая на этом, он считал шарлантанством. Но также и потому, что был такой оригинальный создатель знаточеский методики, как Джованни Морелли (1816-1891)
— Который придумал каталогизацию?
— До Фридлендера все, кроме академических ученых, были увлечены таблицами Морелли, с помощью которых определяли художника по тому, как он изображает пальцы ног, разрезы глаз, носы.
— Своего рода криминалистика.
— Да, действительно. Ведь Морелли формировался в период возникновения криминалистики. Он выдвинул теорию, что есть определенные приемы, которые художник не контролирует, воспроизводит их автоматически, то есть в этом есть психологический момент. Неслучайно труды Морелли повлияли на Зигмунда Фрейда. Последний интересовался искусством и читал Морелли, ему понравилась идея о неконтролируемых зонах на картине. Книга Фрейда «Остроумие и отношение к бессознательному» написана местами под впечатлением от работ Морелли.
При этом Фридлендер был в курсе, что институтские и академические немцы игнорируют Морелли, считают его шарлатаном. Но сам Фридлендер так не считал. Он пишет, что это очень талантливый знаток, а то, как он объясняет свой метод, не имеет отношения к его атрибуции.
При этом Фридлендер видел, что теоретики искусства имеют успех: и Вельфлин, и Ригль. Но, на его взгляд, то, что они описывают, уже не связано непосредственно со зрительным опытом. А Фридлендер все-таки был наследником влияния импрессионизма.
У него живописный критерий, он человек эпохи живописного.
Вообще живописное, то есть возможность через цвет связать все элементы в картине, — это один из главных критериев Фридлендера и его эпохи. Вкус к живописному утрачивается где-то с середины 1960-х, когда появляются социологи и психологи. Они уже работают с мотивами, а бесконечное смакование цветовых созвучий им кажется пустым звуком. И сегодня пластический критерий уже не так важен.
— Фридлендер все время употребляет слово «иллюстратор», «графичный рисунок», описывая работы Босха, Ван Эйка. Про Брейгеля он вообще делает неожиданный вывод: «Он очень иллюстративен, то есть у него живописи нету». У него так проявляется ностальгия по графичной системе рисунка, которая к концу XIX века отошла в прошлое, уступая место импрессионизму?
— Фридлендеру все время хочется чего-то живописного, а поскольку он сталкивается преимущественно с художниками XV-XVI столетий, ему грустно, что этой живописи еще очень мало. Но ему интересно, как авторы работают в жестких рамках, ухищряясь размещать фигуры в пространстве, как они их фактически наклеивают на пейзаж, монтируют из кусков, параллельно оживляя с помощью света. Он мыслит глобально, зная, что из этих произведений родится живописность XVII века.
В оценке некоторых художников Фридлендер, наверное, ошибался, потому что все-таки Босх в его интерпретации — это примитив.
Сейчас отношение к Босху другое: это не примитив, а примитивист, иными словами, образованный человек, который использует архаический язык для того, чтобы было интересно. Никаких адских мук или страхов в его работах нет, но есть ирония, литературщина. Кстати, Фридлендер пишет, что у Босха восприятие пейзажное. Это критерий, который идет у него от импрессионизма. Об этом он пишет в другой своей книге «Об искусстве и знаточестве»: мы никогда не избавимся от более поздних традиций, поэтому будем смотреть на искусство старых мастеров через Сезанна и Эдуарда Мане.
— Некоторые его оценки кажутся сегодня очень резкими. Художника Ганса Мемлинга он называет эпигоном, говоря, что «он меньше всего заслуживает титул мастера, создавшего и приумножившего художественные ценности». Такое высказывание как-то поменяло отношение людей из сферы искусства к творчеству Мемлинга?
— Он спорит скорее с репутацией Мемлинга, которого называли нидерландским Рафаэлем. Он был очень популярен. Фридлендер отказывает Мемлингу в определенных достоинствах, но это его личное мнение. По сравнению с Лонги он все же более деликатен. Во времена Лонги был абсолютный культ мастеров Высокого Возрождения, а Кватроченто еще игнорировали. Лонги нужно было обхамить Высокое Возрождение и поднять таким образом Кватроченто.
— Можно ли вменить Фридлендеру в заслугу идею связывать художников, называя учителей и их учеников? Например, он выстроил линию от Робера Кампена, воспитавшего двух известных учеников Жака Дере и Рогира Ван дер Вейдена, к ученику последнего Дирку Баутсу.
— Такая систематизация — его заслуга. До этого в статьях о художниках больше описывались достоинства того или иного автора, но как работает традиция, какая существует география отношений — не объяснялось.
— Еще Фридлендер подмечает весьма неочевидные связи. Например, что на фламандского художника Квентина Массейса повлиял Леонардо да Винчи. Но когда смотришь на гротескные образы этого фламандца, последнее, что вспоминается — это да Винчи. Как он пришел к такому открытию?
— У каждого из описываемых им художников в наследии очень много влияний, это связано с большой популярностью гравюры в XV-XVI веках. На Нидерланды из Германии и Италии буквально обрушился поток гравюр наиболее известных мастеров и среди них, конечно, был и Леонардо да Винчи. Художники выбирали самые популярные и ходовые сюжеты, по-своему их переосмысляли. Это касается и Массейса, и Йоса ван Клеве, и Госсарта. Фридлендер пишет, что фламандские мастера не все успевали переварить — это был настоящий шквал итальянского влияния, из-за чего некоторые авторы вообще теряли свой стиль и превращались в стилизаторов-эклектиков.
— Повлияла ли публикация этой книги на дальнейшую судьбу Фридлендера?
— В период Веймарской республики он занял ответственную должность директора Картинной галереи музея Кайзера Фридриха. В кайзеровской Германии для него как для еврея это было бы практически невозможно, там родовая аристократия на многое влияла. На этом посту он находился до 1933 года, а после, будучи евреем, должен был покинуть его. Но он оставался в Берлине до 1939 года, консультировал Геринга и других нацистов, а когда расовые законы ужесточились, переехал в Амстердам. Еще Фридлендер на свои средства иногда покупал работы и передавал их в Картинную галерею, одну из таких работ Геринг прихватил для своего собрания — для Фридлендера это был страшный удар. В любом случае, компетенция знатока его спасала. После Второй Мировой войны вернуться в Германию он отказался.
— Книга Фридлендера ориентирована на широкого читателя или специалиста?
— Мне кажется, она доступна и для школьника, в отличие от австрийского историка искусства Макса Дворжака, для понимания работ которого требуется разбираться в проблематике искусствознания того времени. А у Фридлендера тексты написаны в жанре эссеистики, в свободной литературной форме. Не знаю, насколько это ощущается в переводе, но он хочет быть лаконичным, стараясь несколькими фразами описать своё впечатление от автора или картины. Так что для введения это самый лучший автор.