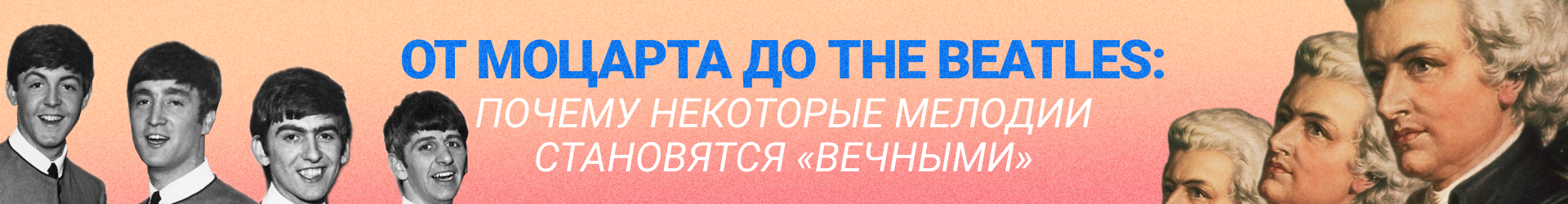No Future: как этические и постколониальные концепции могут спасти мировую экономику
Либеральный мейнстрим, устойчивое развитие и старый добрый социализм — несмотря на господство этих доктрин, на интеллектуальной карте планеты сегодня хватает альтернативных идей. Как перестроить мир в соответствии с этическими и экологическими принципами, бросив вызов западному универсализму и отказавшись от привычных формул?

Постоянные разговоры об экономическом неравенстве и экологической деградации стали повседневным явлением, но никаких серьезных мер по решению этих проблем пока не принято и не предвидится. Тем не менее существует ряд идей, авторы которых призывают вернуть современности этическую и экологически ориентированную базу. При всей своей маргинальности эти программы вполне могут стать куда более популярными, чем являются сейчас.
Глядя на комплекс сегодняшних глобальных проблем, многие любят повторять, что «конец истории» не удался: вместо гармоничной интеграции стран в едином и свободном рыночном порыве мы переживаем форсированную балканизацию умов и идеологий. Растет экономическое неравенство, меняется мировой климат.
Но структурный ответ на эти беды современности требует интеллектуальной проработки новых и, возможно, радикальных социально-экономических методов, что нравится далеко не всем.
Последним таким широкомасштабным подходом стал господствующий сегодня неолиберальный универсализм с его предельно ясным рецептом счастья: урезание госрасходов и ограничение госрегулирования, прогрессирующая приватизация и прелести свободного рынка, уже охватившего околоземную орбиту.
И нельзя сказать, что проект полностью провалился, — некоторым державам, особенно азиатским, глобализация и либерализация экономики пошли на пользу: там был сформирован новый средний класс, уменьшилось неравенство между странами, что хорошо проиллюстрировал сербский экономист Бранко Миланович.

Другое дело, что тот же процесс привел во всем мире к еще большему обогащению пресловутого «одного процента» и концентрации капитала «наверху», в то время как в развитых капстранах это сопровождалось еще и стагнацией или снижением доходов среднего класса.
Подорвав социальное государство на Западе и утвердив довольно хищнический капитализм за его пределами, неолиберализм внезапно оказался под ударами как слева, так и справа.
Снова заговорившие о неравенстве левые вроде Джереми Корбина и Жан-Люка Меланшона шумят на политической арене и сбрасывают старых социал-демократов с парохода современности за их дружбу с капиталом. На горизонте опять маячит призрак социализма, на этот раз обновленного и с энтузиазмом воспринятого теми, кого не устраивает перспектива всю жизнь выплачивать кредиты за учебу, меняя одну временную работу на другую. При этом новые ультраправые и правоцентристские партии в Европе также пытаются — и часто успешно — подвизаться на поприще социальных идей, правда со своим этнорелигиозным фейсконтролем. Где-то между этих двух огней блуждают респектабельные мужчины и женщины в кабинетах ООН и предлагают, с одной стороны, не вживаться в роль могильщиков капитализма, а с другой — умерить аппетиты и вступить на путь «устойчивого развития», то есть оставить все примерно как есть, но сделать общественные институты более экологически ответственными и стабильными.
Пока в западных умах рождаются и зреют эти идеи по улучшению нашей жизни, а их авторы безостановочно полемизируют друг с другом, масштаб возможных и актуальных социально-экономических и экологических проблем продолжает расти. С одной стороны, общество осознает всю серьезность вызовов, с которыми оно сталкивается; с другой — понимает, что предлагаемые варианты недостаточно эффективны или даже ущербны и нам часто просто пытаются подсунуть старые рецепты. Это ощущение становится симптомом практического и интеллектуального кризиса современности.
Проблемная современность
«82 % доходов за прошлый год достались 1 % богатейших людей планеты, в то время как состояние менее обеспеченной половины населения не изменилось», — цитирует BBC Oxfam, международную организацию, занимающуюся борьбой с бедностью. С выдержками и заголовками такого рода сегодня приходится сталкиваться чуть ли не каждый день.
Утвердившийся нарратив — развитие глобального капитализма ведет к росту социального неравенства — постепенно закрепляется в общественном сознании в качестве нового «здравого смысла», так что даже газета The Washington Post, принадлежащая, к слову, богатейшему человеку планеты Джеффу Безосу, предлагает своим читателям «попробовать социализм».

Между тем, согласно Парижским соглашениям по борьбе с глобальным потеплением, странам мира необходимо ограничить выбросы углекислого газа настолько, чтобы средняя температура была выше не более чем на 2 °C по сравнению с доиндустриальными показателями. Если ничего не предпринимать, то к концу XXI века она вырастет на 3 °C. Это означает, например, что уровень моря поднимется более чем на метр, и нам придется попрощаться с городами вроде Амстердама. Чтобы достичь довольно скромных «парижских» показателей, необходимо уже сейчас прекращать добычу нефти и газа, но вряд ли кто-то из жителей России, Туркмении или Саудовской Аравии этому обрадуется. И несмотря на бум зеленой энергетики, поводов для оптимизма не так уж и много: по некоторым оценкам, чтобы избежать потепления, индустриализованным странам надо уменьшать выбросы на 8–10 % ежегодно, что может серьезно затормозить или вовсе остановить промышленный рост. Не исключено, что человечеству придется пересмотреть и изменить существующие экономические модели в целом.
На общем фоне этих цифр и прогнозов универсализм неолиберальной догмы оказывается обманчивым. И даже если ее подретушировать и предъявить как стратегию устойчивого развития, это ничего не меняет.
С одной стороны, глобальные экологические проблемы требуют умелой координации действий при наличии многих локальных подходов, и здесь нельзя просто взять и свести всё к экономическим показателям. А с другой — мы продолжаем восхвалять особый тип субъективности — эдакого космополитичного волка с Уолл-стрит, который всегда рационально поступает согласно рыночной необходимости и максимизирует профит, тем самым принося пользу всем остальным и реализуя свои личные права.
Но это редуцированная схема, в ней не учтен целый ряд параметров — культурных, этических и субъективных. Интересен экономический выхлоп, но не более широкий социальный контекст, который как бы сам по себе подкорректируется, если показатели ВВП находятся на должном уровне и нет проблем с инвестициями. Сегодня эти догмы ставятся под сомнение, и мы оказываемся в мире альтернатив (порой противоречивых!), позволяющих преодолеть узкий экономизм и (псевдо)универсализм господствующей идеологии.
Общие блага
«Общее благо больше не модная идея», — с грустью отмечает экономист Роберт Райх в своей новой книге The Common Good. По его мнению, на смену этой системе разделяемых социумом ценностей пришел голый эгоистичный интерес, наиболее ярким воплощением которого стал «самый ненавистный человек в Америке» Мартин Шкрели. Общее благо нужно трактовать как своеобразный моральный горизонт. Грубо говоря, речь идет о связи этики и экономики. И поскольку сегодня они разделены практически непроницаемой стеной (кстати, любопытно, что отец классической экономики Адам Смит был профессором моральной философии) — постольку фокус на общем благе должен стать антидотом. Моральная экономика XXI века — какой она будет и к чему нам следует стремиться?
Один из самых напрашивающихся ответов — не универсальной. Культурная и политэкономическая гегемония Запада с его модернизационным проектом сегодня вызывает как никогда много вопросов и ставится под сомнение — в том числе и в самом регионе. Тамошняя левая критика часто строит свою идентичность на отказе от этой доктрины, а ренессанс правых с их идеологией культурной войны только подчеркивает уникальность западного проекта, с приходом постмодерна запутавшегося в своих иудео-христианских корнях.
С другой стороны, вышедшие из колониального морока и успешно воспользовавшиеся плодами глобализации азиатские страны благодаря своим успехам, а иногда и мускулам формируют эскиз новой гегемонии. Лейтмотивом в таком случае становится расшатывание интеллектуального универсализма западного образца. Так что локальные идейные традиции Глобального Юга начинают причудливо переплетаться с модерновой установкой на выход из замкнутого круга бедности и повседневных страданий. Если Всемирный банк не может, то добрый сосед поможет.
В результате мы имеем два вектора: один указывает на общее благо в противовес эгоистичному интересу, а другой — в сторону от универсалистских моделей политического и экономического поведения с их «структурными реформами» под бдительным оком интернационального капитала и МВФ. Так что имеет смысл устроить своего рода когнитивный мэппинг различных трендов и идей, авторы которых если и не предлагают комплекс институциональных мер по реформированию политической экономии, то как минимум стараются сформулировать ряд альтернативных принципов перестройки современности.

Устойчивый антирост
Концепция устойчивого развития — отличный пример мейнстримного подхода к глобализации, главная тональность которого — разочарование в этом процессе, связанное прежде всего с экологическими проблемами. В принятой в 2015 году резолюции ООН среди ключевых целей названы следующие: как минимум 7-процентный экономический рост в наименее развитых странах; увеличение доходов беднейших 40 % населения до уровня выше среднего; существенное сокращение объемов производимого мусора за счет превентивных мер, переработки и повторного использования. Все эти шаги должны быть направлены на решение проблем экологической деградации и неравенства, однако их реалистичность вызывает серьезные сомнения — хотя бы потому, что не ставится вопрос о системных преобразованиях. Подразумевается, что заявленных в резолюции благородных целей можно достичь, лишь слегка подкорректировав глобальный капитализм, но для многих этот тезис далеко не очевиден.
Полную противоположность мейнстрима представляет собой стратегия так называемого антироста, которую ее сторонники преподносят как единственный возможный способ уменьшить вред, причиняемый окружающей среде. Придуманный французским социологом Андре Горцем термин следует понимать буквально — как отказ от экономического роста, то есть одной из догм современной политэкономии, ориентированной прежде всего на показатели ВВП. По мнению сторонников теории, «устойчивое развитие» — это оксюморон, и абсурдно говорить одновременно о стабильности планетарных экосистем и продолжении экономического роста. Они убеждены, что расширение производства неминуемо приведет к увеличению количества используемых энергетических ресурсов (хотя их оппоненты утверждают обратное и заявляют, что подобное разделение — decoupling — возможно и экономический прогресс, таким образом, достижим и без вреда для экологии). Более того, адепты этой концепции считают, что следует заниматься распределением (и перераспределением) дефицитных ресурсов, а не производством новых нужд, которые можно удовлетворить только с помощью экономического развития.
Антирост оказывается полной противоположностью современного экономизма еще и в том смысле, что требует изменения потребительских привычек и выработки нового типа социальности — создания более ответственного и бережливого общества, которое в «черную пятницу» и дни новогодних распродаж не штурмует шопинг-моллы. Благосостояние при этом можно обеспечить за счет грамотной политики перераспределения, введения новых локальных систем кредитования, безусловного основного дохода и других популярных низовых мер.
Несмотря на то, что на антирост обращали внимание такие политики, как Беппе Грилло, недавний триумфатор итальянских парламентских выборов из популистского «Движения 5 звезд», и французский социалист Бенуа Амон, стратегия кажется контринтуитивной — и не только из-за того, что является антиподом мейнстрима и противоречит здравому смыслу. Во-первых, что делать с ростом населения в наименее развитых странах, где оно стабильно продолжает увеличиваться (и нет никаких поводов надеяться, что в обозримом будущем ситуация изменится)? Во-вторых, как выводить это население из бедности, если антирост должен стать глобальным, а не только западным феноменом? К тому же рост росту рознь: одно дело, когда это происходит за счет развития цифровой экономики и зеленых технологий, другое — когда аналогичный эффект достигается благодаря разработке Рурского угольного бассейна. Более того, политический потенциал самой идеи крайне сомнителен: непонятно, например, как продать ее рассыпающемуся западному среднему классу или их «коллегам» в условной Малайзии, где эта социальная прослойка заметно подросла.
Общее и кооперация
Популярное социальное воображение сегодня часто оказывается замкнуто между двух традиционных альтернатив: либо продолжение правого приватизационного подхода с реверансами в сторону свободного рынка, либо более жесткое государственное регулирование с ренационализацией ключевых ресурсов и индустрий. Эта послевоенная схема, однако, устраивает далеко не всех, и именно в пространстве между двумя указанными генеральными линиями возникает третья — концепция общего.
Рассматривая проблему коллективного действия, нобелевский лауреат по экономике Элинор Остром пришла к выводу, что знаменитая «трагедия общин» — когда без института частной собственности ресурсы истощаются и используются нерационально — на самом деле не совсем трагедия. За счет кооперации, более активного обмена информацией и привлечения третьих лиц (но не частного капитала или бюрократов) можно добиться эффективной саморегуляции и коллективного управления общей собственностью.
Характерные кейсы — группы рыбаков и вообще те, в жизни которых важную роль играют природные ресурсы, не находящиеся в чьем-либо личном владении, но принадлежащие одновременно всем членам коллектива. Есть мнение, что именно общее должно стать новой ролевой моделью управления, и цифровая революция в какой-то момент добавила оптимизма: появилось множество текстов о цифровом общем (digital commons). Самый знакомый пример — это, конечно, «Википедия». Другое дело, что утопического пафоса и энтузиазма, связанного с технологиями, заметно поубавилось — сегодня вместо них мы имеем масштабный пессимизм, скандалы вокруг Facebook и Cambridge Analytics и пресловутый капитализм платформ.
Идея общего пользования и управления тем не менее продолжает реализовываться на локальном уровне в виде кооперативов, где работники одновременно выступают и хозяевами компаний. Уже упомянутый Бранко Миланович прямо говорит, что без качественных преобразований в структуре владения капиталом побороть неравенство вряд ли удастся. Сегодня в США действует порядка 350 кооперативов, и, хотя число их сотрудников не впечатляет — всего 7000 человек, — главный евангелист этой модели экономист Ричард Вольф уверен, что именно такой путь в конечном счете приведет нас к радикально новой справедливой экономической политике, в рамках которой будет уделяться большее внимание вопросам этики и морали.

Власти Нью-Йорка и Остина заинтересовались этим форматом и запустили инкубаторные программы для молодых кооперативов. Однако даже при подобной поддержке в условиях институционализированного дарвинизма рыночной экономики такие организации с их ориентацией не только на профит, но и на ценности остаются маргинальным явлением. Более того, в случае расширения почти неминуемо будет расти и иерархичность, а также разница в оплате труда — что случилось, например, с крупнейшим испанским кооперативом Mondragon, несмотря на его действительно успешный опыт.
По-настоящему масштабные попытки построения рабочей демократии на национальном уровне пока что не слишком удавались. В Югославии подобный проект пошел ко дну из-за неграмотных управленческих решений, а в Швеции фонды наемных рабочих не достигли своих целей во многом по причине классовых и политических противоречий, а также из-за недостаточной демократизации права собственности.
Другим путем пошли участники панъевропейского проекта Economy for the Common Good. Это и социальное движение, и международная общественная организация, и аудитор, призванный привить этику корпоративному миру. Объявляя себя апологетами идеи общего блага (что видно уже по названию), они привлекают под свои знамена частные компании, которые добровольно подписываются под кодексом этических принципов. Среди них — пять основных: человеческое достоинство, солидарность, демократическая транспарентность, экологическая устойчивость и социальная справедливость. Представители Economy for the Common Good, в свою очередь, проводят независимый аудит компаний на соответствие их деятельности заявленным принципам. И хотя сеть вовлеченных партнеров в основном охватывает германоговорящую часть Европы, здесь мы видим характерный пример крестового похода за общим благом, организованного капиталом и его владельцами. При таком смешанном характере современной этикоориентированной политэкономии она вполне может одновременно охватывать и кооперативы, и движения вроде Economy for the Common Good.
Постколониальная альтернатива
Если перестать приравнивать экономику к концепции роста и отвести взгляд от западных лекал, то при желании можно проследить, как в ряде регионов Глобального Юга прогрессивная экономическая политика начинает проникать в локальные культуры, и в результате образуются весьма причудливые сочетания. И речь здесь идет не о глокальности, когда в условиях неумолимой глобализации условный McDonald’s в Каире приобретает арабские черты, а скорее о постколониальном расширении пространства для концепций общего блага, которые нельзя свести к добродушному европейскому модерну.
Одна из самых известных среди них — buen vivir. В тех или иных вариациях она встречается в культурах Латинской Америки, прежде всего в Боливии и Эквадоре. Buen vivir (в переводе «жить хорошо») — это своего рода народное знание, система представлений о том, как скрещивать экономические интересы с культурой общего блага, локальными традициями, заботой об экологическом равновесии — и без дикого роста потребления. Если догма глобального экономизма гласит, что для социального благополучия необходимы интеграция в единое рыночное пространство, увеличение ВВП и потребительского спроса, то в центре философии buen vivir — этика общего благоденствия, то, что в экономике принято называть новым и набирающим популярность термином wellbeing.
При этом нельзя говорить о buen vivir как об эдакой реакционной доктрине возвращения к корням. Никто не призывает отказываться от экономических благ, ставших возможными благодаря техническому прогрессу, идей модерна — нужно лишь сделать так, чтобы они гармонично сочетались с локальными культурными традициями и не наносили вреда экологии.
Принципы buen vivir были интегрированы в достаточно успешную экономическую программу правительства Эквадора, которое взяло за основу концепцию, позаимствованную у индейцев кечуа. Результаты впечатляют: в период с 2006 по 2012 год уровень бедности снизился на 12 %, а вложения в систему образования увеличились более чем в 8 раз. Аналогичные реформы проводились и в Боливии.
Хотя некоторые расценивают такую апроприацию buen vivir правительственными структурами как извращение философии, на деле подобные меры позволяют создать необходимую обратную связь между локальными сообществами и управленческим аппаратом. Проблема, однако, в том, что это не кодифицированная программа экономических преобразований, а скорее набор эгалитарных принципов. А следовательно, при достаточной идеологической ловкости buen vivir можно подогнать под свои частные нужды.
Что-то подобное произошло с панафриканским аналогом этой концепции — убунту, системе ценностей, так же как и buen vivir, основанной на представлениях об общем благе, солидарности и бережном отношении к окружающей среде. Термин на английский переводили по-разному: «человек является человеком только благодаря другим», «дух добрососедства» и т. п. Эта философия разительно отличается от рыночного индивидуализма, что, однако, не помешало адептам южноафриканской неолиберализации продавать убунту инвесторам как свидетельство их доброжелательного отношения, привязанности к месту и личной ответственности — перед инвесторами, само собой.
Тем не менее сегодня все чаще звучат призывы понимать этот термин в оригинальном, «коллективном», смысле: изначально философия убунту не предусматривает разделения на производителей и приобретателей, а соответственно, исключает неограниченное потребление и бездумное расходование ресурсов. В эпоху экологической деградации, которая особенно сильно должна ударить по Черному континенту, такая этическая инъекция может прийтись весьма кстати.
К слову, философию «духа добрососедства» часто брали за ориентир и при попытках построения африканского социализма в 60–70-е годы, но сегодня это, само собой, вряд ли сработает. Зато убунту вполне может стать локальной матрицей для перезагрузки экономики согласно заявленным ООН целям устойчивого развития — если, конечно, жители континента не предпочтут какой-нибудь более радикальный проект.

К этой же постколониальной волне реабилитации традиционных народных знаний и метафизик можно отнести индийский сварадж — концепцию независимого, низового экономико-политического самоуправления, популяризированную в начале XX века Махатмой Ганди. И хотя он говорил об аграрном характере местного хозяйства и деревенской цивилизации, сегодня можно услышать призывы к ребрендингу свараджа, в котором видят путь к экологической стабильности и социальной справедливости. Если в рациональных экономических теориях главной целью провозглашается рост потребления и количественных показателей, то сварадж предлагается использовать как смысловую структуру, более органично связывающую человека и мир материальных объектов вокруг него. Управление экономикой в таком случае демократизируется, возникает фокус на низовые социальные связи и общее производство, а также доступ к знаниям и инновациям. Вместо копирайта и шеринга по типу Uber — этикоориентированная форма коммунального управления и отказ от мантры неограниченного потребления.
Хотя и buen vivir, и убунту, и сварадж — это не экономические парадигмы типа кейнсианства, их значение в первую очередь состоит в том, что они представляют собой попытку «синхронизировать» локальные этические представления и экономический проект модернизации. Никто не говорит, что надо выкинуть ноутбук на помойку и уйти на рисовые поля. Скорее, речь идет о постколониальной реабилитации традиций для более широкого обсуждения насущных экономических проблем — от деградации природных ресурсов до социального расслоения. В некотором смысле адепты этого движения идут параллельным курсом со сторонниками идей антироста, устойчивого развития, управления общим. Если рассматривать систему их воззрений в русле экономики, то можно сказать, что они проявляют интерес к качественному понятию благополучия, а в терминологии гуманитарных наук — совершают поворот к нечеловеческому: экологии, объектам, технике.
Третьи пути
Слова «поворот к этике и постколониальной инклюзивности» ласкают слух, однако, даже несмотря на видимую тупиковость глобальной неолиберализации, подобные конструкции с позиций экономического реализма в любом случае будут казаться недостижимым идеалом. А там, где есть идеализм, тут же неизменно появляется призрак планирования — главного бугимена мейнстримного экономизма. Другое дело, что даже сформулированные ООН принципы устойчивого развития это допускают — а следовательно, не исключено возвращение большой политики в дело управления.
Хотя идеи общего блага, постколониальные рассуждения о горизонтальных связях и опыты кооперации несколько сыроваты и имеют утопический душок, они выполняют функцию необходимой дорожной карты, не позволяющей нам заблудиться и прийти к иллюзии, что для решения всех наших проблем хватит только лишь возвращения государства и «большого правительства».
Подобными соображениями начинают руководствоваться новые политические силы, например лейбористы под предводительством Джереми Корбина. И хотя последнего таблоиды постоянно рисуют чуть ли не сталинистом, в своей экономической стратегии обновляющаяся партия фокусируется не только и не столько на мантре национализации, сколько на демократизации производства и управления и выведении из тени сотрудников как производителей знания и ценности. Проще говоря, вместо унылого бюрократа, принимающего неадекватные решения в управлении общими ресурсами, в дело вступают сами агенты экономической деятельности, передающие информацию снизу.
Но здесь возникает классическая проблема: как реализовать все эти благородные демократические установки на практике и не скатиться к венесуэльскому сценарию? Сложно представить себе даже безумно широкую сеть кооперативов, которая внезапно подминает под себя международную политику. Именно на этом строил свою критику парадигмы общего Остром известный социолог Дэвид Харви: подобные идеи крайне трудно воплотить в глобальном контексте, и планетарные проблемы так не решить. С другой стороны, оставить все как есть, слепо, как и прежде, выполняя «заповеди» реализма и экономизма (что и привело к текущему тревожному сценарию), кажется еще более странным. Можно сколько угодно говорить, что свободный рынок сам придет к тому, что вся энергия станет зеленой, сверхбогатые — просто богатыми, а тонны пластика не будут больше уплывать в мировой океан. Однако без коллективного действия, продиктованного этическими, а не рыночными императивами, эти проблемы решить вряд ли удастся. И любая подобная альтернатива в сложившейся ситуации оказывается по-своему уместной.