Проклятие цены на нефть: почему государствам так сложно слезть с ресурсной иглы
Если обычным людям история кажется полной случайностей и абсурда, то экономисты стремятся найти рациональные причины каждого решения, повлиявшего на судьбы держав и народов. Проще говоря — пытаются выяснить, кому в стране выгоден или невыгоден существующий порядок.
Почему так трудно выйти из «плохой колеи» и слезть с нефтяной иглы? При каких условиях власти захотят развивать экономику? О бенефициарах исторического процесса рассказывает политолог и экономист, приглашенный преподаватель РАНХиГС по курсу «Поведенческая экономика» Сергей Лебедев.
«Зависимость от траектории предшествующего развития означает,
что история имеет значение».
Дуглас Норт
Экономистов часто критикуют за «интеллектуальный империализм» — стремление распространить методы своей науки на все аспекты жизни. Однако есть мнение, что этот подход позволяет добиться неожиданных и глубоких результатов.
Например, именно на таком методе анализа построены работы нобелевского лауреата Гарри Беккера, который исследовал экономику преступлений — то есть пытался понять, почему эти деяния становятся рациональными поступками, выгодными тем, кто их совершает. Он пришел к выводу, что самая эффективная профилактика правонарушений — не увеличивать тяжесть наказания, а повышать его вероятность. И тогда риск поплатиться за содеянное возрастает, а выгода от преступления становится меньше.

Как экономисты ищут выгоду в историческом процессе
Когда экономисты обращаются к фактам прошлого, то смотрят на них через призму существующих и эволюционирующих институтов. Общая сверхзадача этой когорты ученых может быть сформулирована как «поиск рациональности в истории».
Но рациональность — понятие очень широкое. Например, бывают случаи, когда политические соображения противоречат экономическим.
Достаточно вспомнить президента Заира Мобуто Сесе Секо, который гордился тем, что за всё время своего правления не построил ни одной дороги — ведь по ним могут пройти повстанцы. Экономически иррациональное действие было рациональным с точки зрения политики.
По мнению еще одного нобелевского лауреата Дугласа Норта, двигателями экономической истории (если выражаться научно — «источником институциональных изменений») можно назвать три фактора.
1. Изменение относительных цен
Любимый пример тех, кто занимается экономической историей, — чума, выкосившая в Средние века половину Европы. Оценку этого ужасного периода, которую обычно дают такие исследователи, можно выразить поговоркой «нет худа без добра».
Да, погибло огромное количество людей, но в то же время сокращение числа крестьян повысило стоимость их услуг, а земля, напротив, подешевела. Так укрепилось положение низшего сословия, а позиции феодалов, наоборот, ослабли.
Чтобы каким-то образом удержать крестьян, владельцам наделов пришлось улучшать условия труда и вообще идти на всяческие уступки. Достаточно скоро аренда земли стала пожизненной, затем участки начали передавать по наследству — и в итоге крепостное право в Западной Европе умерло естественной смертью.
Важная ремарка: повышение или снижение цен, которое происходит постоянно, далеко не всегда приводит к институциональным изменениям.
Иногда достаточно только пересмотреть определенные контракты, в корне ничего не меняя. Однако бывает и так, что подобные соглашения встроены в иерархию других правил более высокого порядка, и тогда реконструировать приходится всю систему. Вот тут и начинается веселье — то есть запускается процесс институциональных изменений.
2. Технологические инновации
Российский экономист М. Одинцова приводит такой пример: предположим, вы устанавливаете у себя на участке солнечную батарею, а сосед начинает выращивать высокое дерево, которое отбрасывает тень на вашу землю. Если производители и покупатели солнечных батарей имеют достаточный политический вес, то рано или поздно должен быть введен запрет на выращивание высоких деревьев, закрывающих свет.
3. Изменения во вкусах и предпочтениях людей
Как убедительно доказал Роберт Фогель, на момент Войны Севера и Юга в Америке рабство было экономически эффективным. Но изменилась точка зрения людей на это явление.
Долгое время считалось, что такой способ производства крайне неэффективен из-за принудительного характера труда, неоптимального распределения ресурсов и отсутствия предпринимательского духа (animal spirits). Роберт Фогель с коллегами опроверг эти доводы, доказав, что рабовладельческие хозяйства пользовались экономией от масштаба производства и благоприятной конъюнктурой на рынке хлопка. Это делало их прибыльными. Также Фогель пришел к выводу, что эффективность сельскохозяйственного бизнеса на якобы «отсталом» Юге была выше, чем на «развитом» Севере.
Иными словами, рабство, как бы это ужасно ни звучало, оставалось экономически выгодной моделью хозяйствования. Однако изменились вкусы и предпочтения людей: они решили, что принудительный труд — унижающий человеческое достоинство пережиток прошлого, а свобода — главная ценность.
Из-за этих абстрактных понятий началась Гражданская война, в которой Север победил, после чего рабству пришел конец.
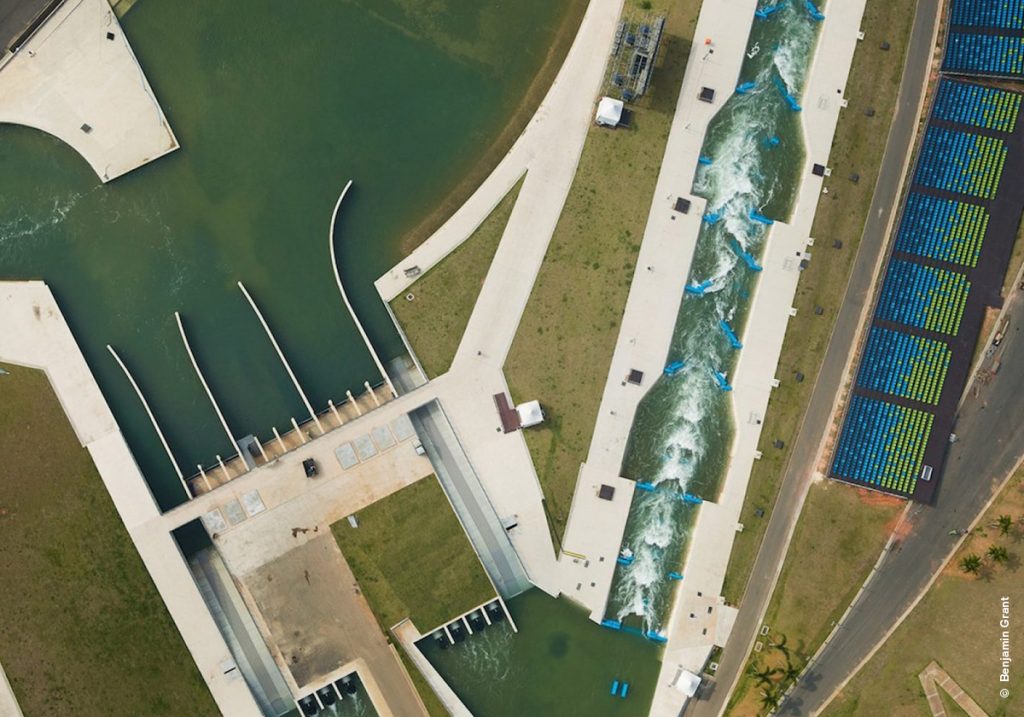
***
Процесс изменений запускается в результате нарушения «институционального равновесия». Этим термином называется такое положение вещей, когда никто не считает выгодным тратить ресурсы на пересмотр и реструктуризацию существующих в обществе отношений: статус-кво устраивает всех, а колебания цен, например, некритичны.
Но иногда ситуация выходит из-под контроля. Например, в 1961 году к власти в Южной Корее в результате переворота пришел генерал Пак Чон Хи, главный творец «корейского экономического чуда». Этому предшествовало правление популистов, которые махнули рукой на развитие экономики: они выдавали огромные и фактически беспроцентные кредиты своим сторонникам, увеличили расходы на армию и полицию и разбазаривали бюджет, подрывая национальное благосостояние, чтобы заработать побольше политических очков. В какой-то момент происходящее надоело военным (поскольку возникла реальная угроза национальной безопасности), и они захотели взять власть в свои руки — то есть, в нашей терминологии, решили потратить ресурсы на реструктуризацию отношений. Проще говоря, совершить переворот.
О чем спорят исторические оптимисты и пессимисты
В экономической теории нет единого ответа на вопрос, всегда ли институциональные изменения означают развитие. Существует как минимум два подхода: исторический оптимизм и исторический пессимизм.
Сторонников первого из них иногда называют «панглоссианцами» — в честь Панглосса, персонажа философского романа Вольтера «Кандид», повторявшего, что всё к лучшему в этом лучшем из миров. Но если вымышленный французским классиком демагог свои идеи толком не обосновывал, то экономисты-оптимисты стремятся доказать собственную правоту в русле строгой научной логики.
К примеру, Армен Альберт Алчиан в работе «Неопределенность, эволюция и экономическая теория» утверждает, что рынок «отбирает» те виды поведения, которые были бы оптимальны в условиях совершенного предвидения. Иными словами, никто не знает прикупа, но кому-то изначально повезло жить в Сочи. Эффективные институты выживают, неэффективные — гибнут.
Исторические пессимисты (или реалисты — это как посмотреть) считают, что мы движемся по неоптимальному пути. В мире без экономической инерции (то есть, выражаясь научно, с нулевыми трансакционными издержками) предшествующее политическое и экономическое развитие не имело бы никакого значения. Однако они отнюдь не нулевые. Очень сложно справиться с инерцией и заставить экономику страны изменить траекторию. Декан экономфака МГУ и крупный ученый Александр Аузан предлагает называть это явление «эффектом колеи» (path dependence), и, пожалуй, лучшего перевода не придумаешь.
Эффект колеи: почему неверный выбор становится приговором
В своей работе «Клио и экономическая теория QWERTY» Пол Дэвид демонстрирует, как закрепляется этот неэффективный стандарт.
Изначально привычная для нас раскладка клавиатуры появилась в рекламных целях — чтобы продавцы могли максимально быстро набрать слово typewriter («печатная машинка») и произвести на клиента эффект. Спустя несколько десятилетий появилась клавиатура Дворака, признанная куда более эргономичной. Но вы когда-нибудь слышали о «клавиатуре Дворака», видели ее в продаже?
Внедрению более совершенного устройства помешал целый ряд факторов, один из которых — (квази)необратимость инвестиций в обучение. Уже существовал целый класс машинисток, привыкших печатать на QWERTY-клавиатуре и не желавших переучиваться. Но в первую очередь это было не очень выгодно бизнесу: временно снижать эффективность труда ради переобучения персонала — так себе перспектива.
Применяя эту аналогию, экономисты вводят понятие неверного институционального выбора.
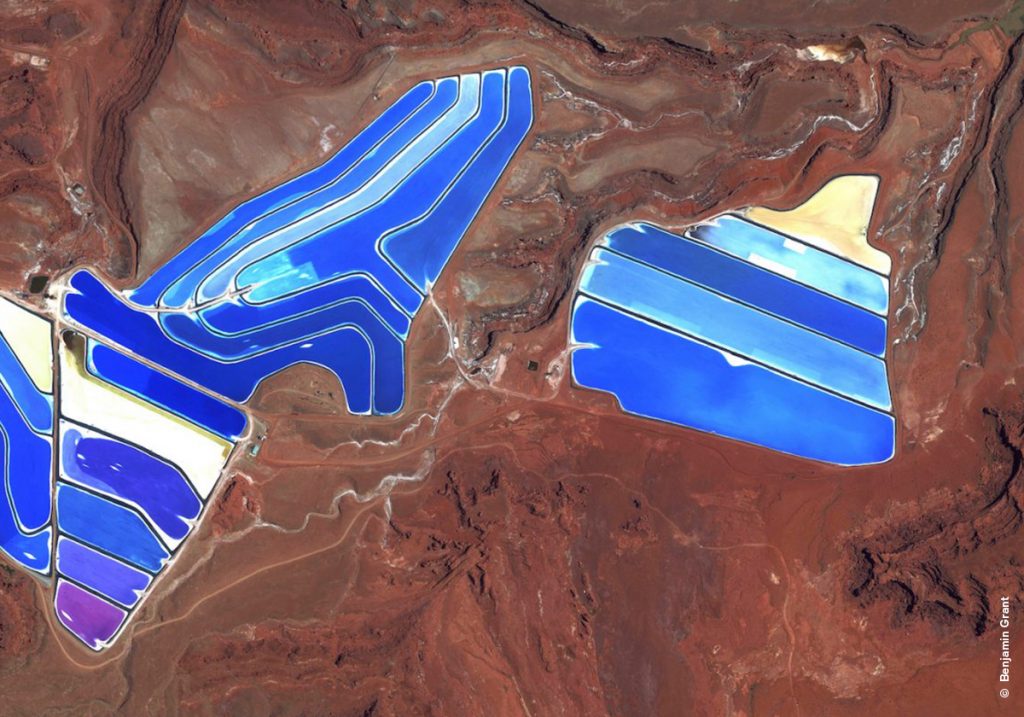
Классический пример — история Англии и Испании. В XVI веке эти страны были примерно на одном уровне развития, однако почему-то к XIX столетию первая вошла в число великих держав, а вторая превратилась в крайне отсталое государство.
Дьявол кроется в деталях: так вышло, что в Испании налоги были в ведении короля, а в Англии — парламента. Монархи стремятся упрочить и расширить свою власть (отсюда — дорогостоящие военные кампании), в то время как парламент больше склонен заботиться об экономическом процветании страны (и создавать благоприятные условия для бизнеса).
Какой смысл что-то развивать, если правитель может в любой момент экспроприировать это и бросить в горнило своих политических амбиций? Неверный институциональный выбор привел к тому, что Испания до сих пор остается одной из самых неблагополучных европейских стран.
Лоббисты и идеология: почему так сложно слезть с нефтяной иглы
Самая сложная ситуация — сильная форма зависимости, когда неэффективность выбранного пути очевидна всем и каждому, но заинтересованные лица лоббируют сохранение статус-кво. А также если при этом существует мощная идеология, препятствующая выбору другого направления развития.
Даже обыватели понимают, что сырьевая зависимость — печальное состояние экономики. Но слезть с нефтяной иглы и перейти к инновационному развитию не так-то просто.
Во-первых, существует сильный класс политически интегрированных нефтяников и газовиков, которые получают колоссальные дивиденды от сырьевого экспорта и хотят, чтобы такое положение вещей сохранялось. Они могут тратить миллионы долларов на лоббирование выгодных и сдерживание невыгодных для них законопроектов — то есть делают выбор в свою пользу, а развитие экономики в целом их не заботит. Нефтяные компании бывают настолько могущественны, что порой идут (конечно, не пересекая определенных границ) против интересов государства и продавливают свои.
Во-вторых, может насаждаться идеология, один из основных тезисов которой гласит: сырьевой экспорт — это панацея. Как часто в СМИ мы слышим клише «природные богатства» или «национальное достояние», которые, «влияя на умы», превозносят роль добывающего сектора экономики.
В России ситуация еще сложнее: здесь сформирована достаточно крепкая концепция «энергетической сверхдержавы», а газо- и трубопроводы стали действенным оружием в геоэкономических разборках. И поэтому перед российским руководством стоит непростая задача — каким-то образом сохранить сырьевой сектор как «геополитическую палицу» и при этом переориентировать экономику страны.
В-третьих, многие попросту не понимают, какой он, другой путь развития. Ограниченная рациональность — концепция, сформулированная нобелевским лауреатом Гербертом Саймоном. Ее суть очень проста: мы не можем изучить все опции и альтернативы и ограничиваемся лишь некоторыми из них. Вспомним «Миф о пещере» Платона — если с рождения и до смерти сидеть в гроте и смотреть на тени на стене, то будет казаться, что они и есть весь мир и вся жизнь.
Власть и экономическое развитие
Если народ несколько столетий жил при жесткой автократии, то он может просто не представлять себе, а как иначе. Н. А. Бердяеву приписывают следующее высказывание: «С февраля по октябрь 17-го года перед восхищенным русским взглядом прошли парадом всевозможные партии и идеи. И что же выбрал русский человек? То, что имел, — царя и державу!»
Есть ли надежда, что ситуация когда-нибудь изменится? Как отмечает один из крупнейших экспертов в области политической экономии Роберт Бейтс, правящий режим развивает экономику только в том случае, если это напрямую связано с его выживанием.
Например, в такой ситуации оказалась японская элита после Второй мировой войны: в стране была достаточно активна левая оппозиция, поэтому властям ничего не оставалось, кроме как срочно доказать преимущества капиталистического пути развития. Идея догнать Запад по экономическим показателям оказалась электоральной необходимостью. Итог известен: средние темпы роста ВНП Японии с 1955 по 1973 год составляли 9,6 %. Более того, к 1975 году ВНП на душу населения в Стране восходящего солнца равнялся 62 % и 65,9 % от аналогичных показателей в США и Западной Германии соответственно.
Со схожей проблемой столкнулся уже упоминавшийся выше Пак Чон Хи, устроивший военный переворот в 1961 году. Только угроза исходила не от внутренней оппозиции, а от Северной Кореи. Чтобы выжить, Сеулу была необходима мощная диверсифицированная экономика, и если в 1950-х она была на нуле, то спустя 60 лет достигла объема почти в триллион долларов. На конец 2015 года Южная Корея занимала по объему ВВП 11-е место в мире. «Чудо на реке Ханган» не пустые слова.
Третий пример — Тайвань, который находился в геополитической тени КНР. Исследователи считают, что экономическая модернизация острова была направлена на сохранение независимости. Еще в 1952 году Тайвань оставался аграрной страной: на сельское хозяйство приходилось 35 % всего производства. Сейчас это мощная наукоемкая экономика, агросектор в которой не превышает 3 %, а среднегодовой рост ВВП равен 4 %.
Тактически каждая из перечисленных стран шла по своему пути, но было и немало общих черт: развитие экспортно ориентированных отраслей промышленности, заимствование западных технологий и масштабная поддержка бизнеса со стороны государства.
Все три примера иллюстрируют контринтуитивный тезис: развитие экономики заботит правящий режим далеко не всегда. Более того, в подавляющем большинстве случаев власть заинтересована в обратном.

Ведь экономический рост может порождать политическую конкуренцию (крепнет средний класс со своей повесткой и программой), а также приводить к «созидательному разрушению» — то есть к уничтожению старых отраслей и появлению новых (так мобильный телефон убил пейджер). Меж тем нередко бенефициары «старых отраслей» интегрированы в правящую элиту — а это значит, что они всеми силами будут противиться экономическому развитию.
Но когда само существование режима оказывается под угрозой, ситуация в корне меняется. Сразу создается система стимулов, волшебным образом находятся деньги на поддержку малого и среднего бизнеса, снижаются налоги.
Эти две сферы образуют что-то вроде уробороса: экономическое развитие затруднительно без политического импульса, а политическое — без импульса экономического. Но в целом современные институционалисты в большинстве своем согласны с тем, что не политика — наиболее концентрированное выражение экономики, а, скорее, наоборот, экономика представляет собой продолжение политики. Неслучайно в последние несколько десятилетий стал популярен термин «геоэкономика» («геополитика» + «экономика»).
Именно поэтому залог материального благополучия страны — во внутренней политической конкуренции. Если правящий режим будет чувствовать, что на выборах можно и не победить, то он начнет делать всё, чтобы экономика росла и крепла.
