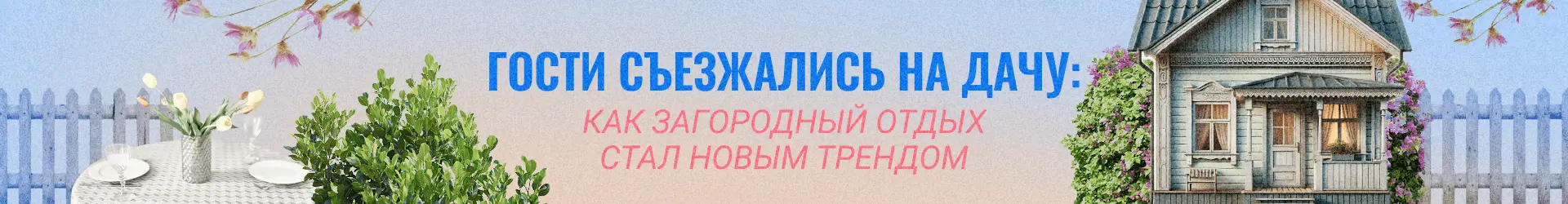Судьба поэзии. Самый эгоцентрический жанр современности
В издательстве НЛО вышла книга «О современной поэзии» профессора университета Сиены (Италия) Гвидо Маццони. Обращаясь к поэтическим текстам Нового и Новейшего времени, автор рассказывает о радикальной трансформации, которую претерпела поэзия: поэты начали писать нарочито темные по смыслу тексты, нарушать правила метра и синтаксиса, обновлять лексику, устранять дистанцию между собственной персоной и лирическим героем. Публикуем фрагмент из главы, посвященной литературному пространству современной поэзии.
1. Остаточное содержание
Мы убедились, что со второй половины XVIII века до начала XX века европейская поэзия претерпевает невероятную метаморфозу: теоретически поэты завоевывают полную лексическую, метрическую, синтаксическую и риторическую свободу; наряду с экспрессивизмом значения появляется экспрессивизм формы; стиль превращается в продукт особого мироощущения или в крайнем случае иного языка. Если справедливо, что многие писатели пытались ограничить анархию, справедливо и то, что возвращение к порядку теперь являлось исключительно личным выбором, столь же слабым и спорным, как и противоположный выбор. Мы говорили, что современная поэзия — это литературное пространство, у которого есть центр и две периферии; в центре находится лирика, на перифериях — две противоположные, зеркальные по пытки оспорить ее примат: long poem, то есть повествовательное или эссеистическое сочинение на неавтобиографическую тему, и поэзия, стремящаяся превратиться в чистую форму, в чистый звук. Если основное различие заключается в связи с эмпирической автобиографией автора, внутренний элемент текстов, обеспечивающий единство нашей территории, — это субъективная, экспрессивистская природа формы. В общем представлении людей нашей эпохи сам факт того, что кто-то пишет стихами, воспринимается как способ отойти от фразы нулевой степени и переключить интерес читателя с содержания на стиль. Об этом кратко сказано на одной из страниц «Дневника размышлений»:
Подражание — занятие прозаическое, в прозе, например в романах, применять его разумнее: так и в нашей комедии, драме в прозе и так далее. В подражании всегда немало рабского. В высшей степени ошибочна идея рассматривать и определять поэзию как подражательное искусство, ставить ее в один ряд с живописью и так далее. Поэт воображает: воображение видит мир не таким, каков он на самом деле, оно притворяется, изобретает, не подражает, не подражает (подчеркиваю) намеренно: творец, изобретатель, не подражатель; таков по сути характер поэта.

По мнению Леопарди, поэзия непригодна для мимесиса реальности, потому что в мимесисе «немало рабского»; в отличие от писателя, который старается дать голос фактам, аннулируя самого себя, «чем больше в человеке от гения <…>, тем больше у него собственных чувств», «тем большее негодование вызовет у него мысль о том, чтобы выступать в обличье другого персонажа, говорить от чужого лица, подражать», он захочет оказаться в центре текста, рассказывая о себе в стиле отличном от свойственного прозе стиля нулевой степени, который, напротив, прекрасно подходит для рабского представления внешнего мира. Леопарди по-своему переписывает топос романтической теории: противопоставление подражания и выражения. Согласно этой схеме мысли, у литературы две задачи: рассказывать о мире и выражать чувства, идеи, взгляд пишущего. В первом случае автор обязан сосредоточиться на объективной действительности, для чего необходим посредник в виде прозы — например, так происходит в современном романе или в современном театре; во втором случае пишущему дозволено выставлять на обозрение самого себя, здесь требуется версификация — это происходит в лирике. На странице, которая предшествует приведенному отрывку, Леопарди говорит, что эпическая поэма, непременно подразумевающая придуманный с холодной головой план, разрушает мгновенный порыв, который является сутью и тайной подлинной поэзии. Это любопытные наблюдения: на нескольких страницах Леопарди в сжатой форме выражает идеи, которые сегодня стали общепринятыми. Сегодня проза кажется ближе к элементарной фазе, о которой говорил Барт; поэзия же воспринимается как аномальная, отчужденная манера письма, поэтому ей удается привлечь внимание читателя к тому, каким образом показаны предметы, а не только к самим показанным предметам. Когда возникла подобная цепочка автоматических ассоциаций, хорошо известно: это совпало с развитием современных литературных жанров, когда поэзия начала специализироваться и преображаться в исключительное средство лирики.
До этого существовала тысячелетняя история стихотворного, нарративного или драматического мимесиса, при котором поэтическая речь выполняла служебную роль и зависела от содержания.
Когда поэзия еще представляла собой формулу «проза + a + b + c», заставить говорить театральных персонажей с соблюдением правил просодии означало следовать привычке, которая стала второй натурой и которая подчинялась точному коллективному ритуалу; однако с тех пор, как современный роман и буржуазная драма вытеснили повествовательные и театральные произведения в стихах, а экспрессивистская теория стиля заняла господствующее положение в западной литературной системе, возможность перейти на новую строку до того, как предыдущая достигнет края страницы, воспринимается как форма отстранения, далекая от естественной манеры рассказывать и аргументировать: это способ отвлечь интерес от объективного содержания и сосредоточиться на субъективной непрозрачности формы. С тех пор тексты, в которых упор делается на оригинальность стиля, стали, по сути, эгоцентрическими: в центре произведения оказался жест, при помощи которого авторское «я» придает смысл действительности, показывая ее в новом свете, а не имманентное действительности значение, которое должен выражать текст, привлекая к себе самому как можно меньше внимания. Если верно, что существовали и существуют многочисленные формы отчужденной прозы, начиная с романов, которые читают ради того, как они написаны, а не ради того, о чем в них рассказывается, верно и то, что, с тех пор как повествование становится для поэзии чем-то неестественным, чисто миметические стихи оказываются более невозможны.
Сегодня даже антилирические стихотворения не лишены лиричности стиля: чтобы рассказать о чем-то в простой, объективной, прозрачной, надличностной, служебной форме, нужно использовать прозу, и только прозу. Всякий тип стихотворного текста стал непрозрачным; даже стихотворения, которые, повествуя и аргументируя, силятся вырваться за границы лирики, делают это в форме, которая с точки зрения наших читательских привычек кажется подчеркнуто субъективной. Существует эгоцентризм содержания и эгоцентризм формы: если декларативно автобиографические стихотворения их суммируют, стремящиеся к имперсональности стихо творения, вроде «Броска костей» или «Бесплодной земли», отрицают первое, но подчеркивают второе. В то время как миметический романист пытается стать посредником для истории, которая теоретически способна сама себя рассказать, стилистическое отстранение по своей сути соприродно современным сочинениям в стихах: в этом жанре автор сохраняет абсолютное формальное господство над речью, даже если он заявляет, что «говорящий исчезает поэт», или рассуждает о полной обезличенности текста. За последние два столетия миметические жанры прозы возвращали писателя в центр произведения различными способами (юмористический роман, roman personnel, роман-эссе, роман, который основывается на письме как таковом), но от стиха они неизменно отказывались. Всякий, кто сегодня заходит в книжный магазин, ожидает увидеть полки с художественной прозой (которая за редкими исключениями написана именно прозой) и полки с поэзией (главным образом с лирикой). Эпос, роман и роман в стихах исчезли: бывает, особенно в англоязычных странах, что «Златые врата» (1986) Викрама Сета становятся бестселлером, что Дерек Уолкотт создает постколониальную эпику в стихах («Омерос», 1990), что Джон Эшбери публикует 216-страничное стихотворение «Блок-схема» (1991), что Энн Карсон («Автобиография красного», 1998) и Лес Маррей («Фреди Нептун», 1998) успешно сочиняют романы в стихах, однако речь идет о текстах, намеренно обманывающих читательское ожидание. Версифицированное повествование встречается редко, такие книги ставят на одну полку со сборниками лирики — за последние годы в Италии так произошло со «Спальней» (1984, 1988) Аттилио Бертолуччи, с «Жанной д’Арк» (1990) Марии Луизы Спациани, с книгами «Сестра Аве» (1992) и «Розабьянка и графиня» (1994) Лудовики Рипа ди Меана, с «Совместно нажитым имуществом» (1995) Эдоардо Альбинати, с «Монахиней-кармелит кой» (1997) Франко Буффони, с рассказами в стихах Оттьеро Оттьери — приведем лишь несколько разнообразных примеров.
Впрочем, читателю романов прекрасно известно, что он не найдет в этих книгах того, что ищет.
Достаточно взглянуть на то, как в «Editorial Review» на сайте Amazon.com в феврале 2022 года рекламировали «Златые врата»: «Могут ли 690 сонетов с рифмовкой a-b-a-b-c-c-d-d-e-f-f-e-g-g быть романом? Определенно могут!» Вопрос явно выдает сомнения в том, что это утверждение соответствует правде, — впрочем, «Editorial Review» честно заявляет по пово ду «Фреди Нептуна»: «Роман в стихах не самый модный жанр». Хотя читатель романов готов отвести авторскому «я» более или менее широкое пространство, он ожидает, что в книге более или менее верно будет рассказана история: произведение, в котором язык имеет такой вес, что заслоняет собой содержание, может вызвать у читателя раздражение. «Никакая очень большая поэма никогда более популярна не будет», — писал По в 1850 году: поскольку стихи не подходят для изложения научной истины или нравственных убеждений, эпическая и назидательная поэзия — литературные конструкции, обреченные рухнуть, нечто ставшее недействительным, из чего будущие читатели возьмут короткие лирические стихотворения и не возьмут отрывки, выполняющие роль связок. Если сформулировать эту мысль не столь безапелляционно и признать существование редких исключений, она и сегодня окажется верной и будет знаменовать собой эпохальное изменение.
2. Лирический романтизм
Хотя непрозрачность формы объединяет различные течения современной поэзии, наш жанр остается обширным силовым полем с нечеткими границами. Пока что мы говорили о различии между центром и перифериями; теперь хотелось бы точнее изобразить карту всего поля. Наша задача не охарактеризовать множество действующих в нем тенденций, а выделить их наиболее значимые скопления или, возвращаясь к метафоре города, главные оси городского развития. Сама логика нашего предмета подсказывает отправную точку обобщенной исторической морфологии, которую я пытаюсь изложить: поскольку наш жанр эгоцентричен по своей структуре, представляется разумным упорядочить и описать оси его развития, учитывая образ, вес и роль первого лица в мире, который рисует поэзия. Можно было бы отдельно рассмотреть эволюцию экспрессивизма в области содержания и в области формы, однако таким образом мы применим механический критерий, далекий от реальной связи между этими явлениями, в то время как на самом деле необходимо рассматривать вместе темы и стиль, размышляя о том, какое место занимает внутри текста «я».
Как было сказано выше, в центре нашего литературного пространства находится самый субъективный жанр — лирика.
В системе литературных форм, возникшей с романтической революцией, современная лирика породнилась с прозаической автобиографией, однако, если вторая использует средство, которое в нашем общем представлении связано с мимесисом, в первой стиль имеет решающий вес. Это означает, что с тех пор, как форму начали понимать как отражение особого мироощущения, наше семейство текстов представляется отмеченным крайним субъективизмом. Возвращаясь к размышлениям Леопарди, о которых шла речь в предыдущем параграфе, можно сказать, что в прозаическом подражании немало рабского, а современная лирика — типично господский жанр, литературная форма, которая, описывая мысли или осколки частной жизни стилем, далеким от обычного способа вести рассказ, воссоздает вдвойне эгоцентрический образ мира. Структура театрального произведения и романа легко выходит за рамки отдельной жизни: герой драмы говорит и действует рядом с другими героями в общем сценическом пространстве; рассказчик может сделать так, что его слово вступит в конфликт со словами персонажей, он может перенести действие во времени и пространстве. Самый лиричный романист вряд ли может игнорировать константы жанра, созданного для того, чтобы одновременно показать правду героя и правду того, что больше его: внешнего мира, взглядов других людей, полей, где действуют психологические и общественные силы, от которых зависит идентичность и судьба индивидуумов. Зато современному поэту трудно выйти за сферу своего «я»: когда он пытается это сделать, он как будто старается выйти за рамки, имманентные логике его жанра, и оказаться на территории, которую мы с нашим горизонтом ожиданий воспринимаем как экспериментальную.
Однако, если лирика — это центр, ядро, вокруг которого объединен весь жанр, это ядро, в свою очередь, настолько растянуто во времени, его границы настолько нечетки, что его тоже приходится делить на сегменты. Как мы говорили, утвердившаяся за последние столетия модель субъективной поэзии возникла во второй половине XVIII — начале XIX века. Если применить к литературе категорию политической философии, можно назвать этот архетип лирическим романтизмом. Я имею в виду не определенную совокупность текстов, а некий идеальный тип, то есть синтетическую, абстрактную модель, которую я попытаюсь описать, отталкиваясь от индивидуального, конкретного примера. Мейер Говард Абрамс в своей известной работе подчеркивал, что литература романтизма обновила поэтические жанры, изобретя форму, которая станет очень популярной во второй половине XIX века и в XX веке, но которой до романтизма не существовало или которая только зарождалась. Не найдя лучшего опре деления, Абрамс назвал ее greater Romantic lyric, большой романтической лирикой, подчеркивая идеальную преемственность между этой формой и одой Пиндара, которую неоклассическая критика называла большой одой (greater ode), чтобы отличать ее от малой оды (lesser ode) Горация.
Текст большого романтического лирического стихотворения содержит монолог индивидуального поэтического «я», которое движется в индивидуальном пейзаже и ведет беседу с самим собой, с безмолвным собеседником или с предметами.
Обычно первое лицо начинает с описания того, что оно видит, затем углубляется в философские (в широком смысле) размышления, которые подталкивают его сделать нравственный выбор, решить эмоциональную проблему, принять трагическую утрату или поразмышлять о человеческой участи. Многие из знаменитых стихотворений английских романтиков имеют похожую структуру, например «Эолова арфа», «Полуночный мороз», «Страхи в одиночестве», «Уныние» Кольриджа, «Тинтернское аббатство» и «Отголоски бессмертия» Вордсворта, «Стансы, написанные в унынии вблизи Неаполя» и «Ода западному ветру» Шелли, однако не составит труда вспомнить еще десятки известных примеров из других литератур, от «Половины жизни» Гёльдерлина до «Бесконечности» Леопарди. Эти романтические лирические стихотворения отличаются от досовременной лирики трагического стиля тем, что они связаны со случайными обстоятельствами и индивидуализированы: поэтическая речь соотнесена с конкретным местом и временем; у персонажа, который называет себя «я», есть собственное имя; звучащий в стихотворении голос в основном совпадает с голосом реального человека, чье имя стоит на обложке книги стихов.
Читайте также
Подобный способ создания текстов подразумевает этос, который трудно определить с точки зрения формы и содержания, но который современный читатель легко угадывает, особенно если сравнить подобные стихотворения с субъективными стихотворениями, к которым его приучила литература XX века. Можно сказать, что выдающаяся романтическая лирика рождена формой уверенности: уверенности, с которой «я» говорит о себе, будучи твердо убежденным, что его частная жизнь имеет непосредственное всеобщее значение или, если угодно, космическое и историческое значение, причем в двойном смысле — «общепризнанное» и «существенное, решающее для нашего понимания действительности». О таком лирическом субъекте можно ска зать то, что сказано о поэте в предисловии к «Лирическим балладам»: речь идет не о человеке, которого можно назвать выдающимся благодаря его положению, престижу или деяниям, а об обычном человеке, возможно лучше других выражающем мысли и страсти, но, по сути, остающемся равным себе подобным. Поскольку мы можем узнать мельчайшие подробности его жизни — от того, как его зовут, до связанных с ним многочисленных мелких историй, — идентифицирующий себя с ним читатель не узнаёт себя в трансцендентальной модели, а накладывает свой субъективный мир на субъективный мир поэта, как если бы частный опыт автора стихов касался всякого человека и содержал правду и о его жизни.