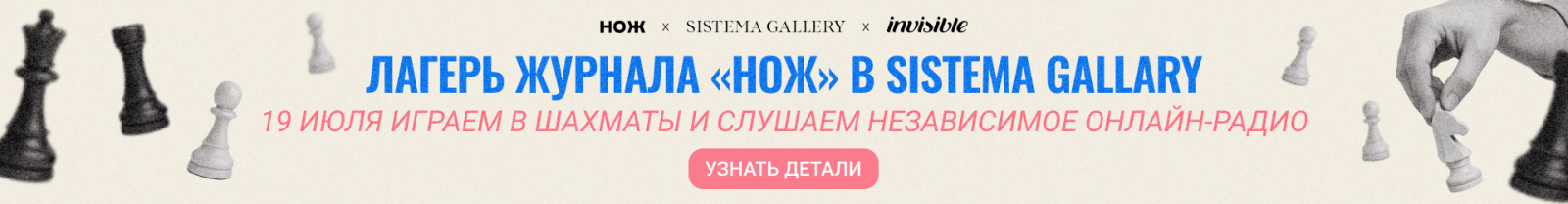Нулевой год Германии. Как немецкие фильмы конца 1940-х осмысляли постнацистскую действительность
Для обозначения политики преодоления прошлого в Германии существует специальное слово — Vergangenheitsbewältigung. Расставаться с тяжким грузом учились не только в посленацистской Германии — к таким практикам прибегают до сих пор по всему миру после падения тоталитарных режимов: Франко, Чаушеску, Сталин, греческие «черные полковники». Но постфашистская травма — ключевой прецедент в мировой истории. Фильмы, которые снимали в первое послевоенное десятилетие, по-своему осмысляли этот «нулевой» период. Так в Германии появилось «руинное кино» — способ говорить об изменившемся мире, вине и попытках жить заново.
Первые послевоенные годы в Германии принято называть «нулевыми» — с 1945 по 1949 год: некогда великая страна лежала в руинах и начинала с чистого листа. В «нулевом» состоянии находилось и кино того периода. В первый год не было снято ни одного фильма — такая «кинопауза» в значительной степени была связана с политикой декартелизации, проводимой странами-победительницами: закрытие и конфискация активов немецких киностудий, в том числе главной студии Третьего рейха UFA. Кроме того, не обнаруживалось и интереса к фильмам у самих зрителей, как, собственно, и средств на такие развлечения.
После Гитлера и фашистской пропаганды немецкое кино училось жить в новой децентрализованной системе, и перед кинематографистами стояла задача буквально заново изобрести методы и способы кинопроизводства, а также киноязык.
Первой реакцией на кризис стали «руинные фильмы» (с нем. Trümmerfilm), в центре которых оказались темы повсеместных городских разрушений и попыток создать на этих останках новую жизнь и новую страну.
«Фильмы на руинах» активно снимались также в Италии и Восточной Европе — там, где шли процессы восстановления. Что касается именно немецкой специфики «руина-синема» — несмотря на то, что такие картины воспринимались как низкопробное художественное высказывание, цель которого — реабилитация дискурса «хороший немец в плохие времена», — в этих фильмах был и критический потенциал. Тотальная разруха встраивалась в повседневность немецкого населения: вместо ностальгической привязанности к обломкам Германии — знаки отчаяния, травмы и разрушенной немецкой идентичности.
«Этот образ разрушения вызывал чувство стыда, печали, вины, гнева и неприятия прежнего национал-социалистического режима, а также оккупации странами-победительницами — США, Англией, Францией и Советским Союзом… Послевоенные руины представляют собой реальность болезненных травмирующих и катастрофических событий и необходимость реконструкции новой жизни на основе этих кризисных переживаний. Немецкие зрители и критики не оценили большинство „фильмов руины“ и их аллегорические образы поражения и кризиса».
Мартина Мюллер, Rubble, Ruins and Romanticism: Visual Style, Narration and Identity in German Post-War Cinema
Два самых первых и примечательных фильма той эпохи — «Убийцы среди нас» (1946) Вольфганга Штаудте и «Германия, год нулевой» (1947) Роберто Росселлини. Последняя часть антивоенной трилогии Росселлини (первые две картины — «Рим, открытый город», «Пайза»), снятая в Берлине, отчасти и дала название этому периоду.
Темы «руинных фильмов»:
- проблемы возвращения солдат;
- бедность, страдания и бедствия в послевоенной Германии;
- историческое обнуление;
- конфронтация с прошлым, особенно с проблемами коллективной вины;
- преступление и наказание;
- военный ущерб и военные потери;
- жизнь среди разрушений;
- реконструкция.
Между экспрессионизмом и неореализмом
Первый эпизод «Убийц»: разрушенная берлинская улица, груды кирпичей, разбомбленные здания, могилы, толпа детей играет среди этих развалин, впереди печально движется мужская фигура в пальто. Это и есть главный герой — военный хирург Ханс Мертенс, пытающийся заглушить травмы прошлого алкоголем. Он недавно вернулся с фронта и теперь вынужден делить квартиру с девушкой Сюзанной, прошедшей концентрационный лагерь.
Камера ведет нас снизу вверх, постепенно поднимаясь от земли и открывая вид на всю сцену. Перспектива апокалиптической улицы дается под скошенным «голландским» углом — частый ракурс эпохи немецкого экспрессионизма. Отсылает к великой немецкой кинотрадиции не только это, но и само изображение «зловещих» зданий с острыми зубьями, углами, осколками окон, мрачные виды с резкой светотенью.
Руинизированы не только экстерьеры, но и интерьеры, таким образом отчасти устраняется различие между домом и городом, личным и общественным пространствами. Дом — как символ безопасности, границы и нормы — уничтожен.
«Фильм был еще не восточным и не западным, хотя и делался под эгидой советских „культурофицеров“. Он вернул немецкому кино самоуважение и связь с традицией экспрессионизма. Он, наконец, открыл для кино новую „диву“, Хильдегард Кнеф [в роли Сюзанны]».
Майя Туровская о картине «Убийцы среди нас»
Беспризорные дети среди обломков — также частый мотив послевоенного кино. Они открывают фильм Штаудте, их исследует и Росселлини в своей «Германии». Главный герой картины — мальчик Эдмунд — скитается по улицам в поисках еды, денег и сигарет для своей семьи: сестры, больного отца и брата, который скрывается от полиции, боясь попасть в тюрьму за участие в военных действиях. Оставленные, потерянные и осиротевшие дети трансформируются в общность без определения, снующую по городским развалинам, — еще один признак разрушенной нормы традиционной семьи.

«Германия» Росселлини является ярким примером соединения традиций неореализма и экспрессионизма. И руина приходится этому хорошей опорой. С одной стороны, она служит неким документом реальности, элементом правдивого пейзажа, что отвечает запросу на «уличность», с другой — такая выразительная архитектура выходит за рамки «воссозданного репортажа» и «необычайного чувства правды», который Андре Базен называет отличительными чертами неореалистического кино.
Исследователь Бенедикт Моррисон в книге Complicating Articulation in Art Cinema описывает этот прием как диалектическое отношение, которое действует как «тезис и антитезис» в гегелевском смысле: «Германия» не просто объединяет два стиля, а сталкивает и противопоставляет их, предлагая зрителю дискретную форму прочтения. Жилберту Перес, писавший о неореализме Росселлини и Ренуара, осмысляет это смешение как демонстрацию концепции Брехта о «сложном видении»:
«…не один фокус, а их многообразие, которое раскрывает зрителю глаза, выдвижение разнообразных аспектов, противоречивых точек зрения, чтобы вызвать у аудитории активное размышление, а не просто молчаливое согласие… Нарушая последовательность любого из представленных способов, они [Ренуар и Брехт] поощряют нас сравнивать разные стили игры, виды вымысла и способы смотреть на вещи».
Человек гуляющий и вспоминающий
Поскольку городской пейзаж являлся ключевым местом «руинного кино», главным героем был человек, погруженный в эти пространства и исследующий их. Такой фигурой выступил фланер. Он становится странствующим наблюдателем недавнего прошлого и разрушительного настоящего. В фильме Росселлини — это мальчик Эдмунд, в «Убийцах среди нас» — доктор Мертенс. Последний, помимо того, что прямо отсылает к классике экспрессионизма — «М» Фрица Ланга (черновое название фильма — «Убийца среди нас»), также использует темные фланерские тенденции веймарского кино.
Убийца М Ланга — критический символ, ставящий под сомнение современное ему устройство начала 1930-х. В прогуливающемся в поисках жертвы маньяке заключается темпоральная метафора: он является маркером времени, городских изменений и тревожного настроения улиц. Аналогичным образом «руинное кино» использует фланера в качестве наблюдателя-странника, чтобы представить радикально измененные пространства. Как пишет Джейми Фишер, «„руины“ воскресили эту фигуру [фланера], чтобы пересмотреть современный мегаполис, ныне опустошенный войной».
Эти путешествия по знакомой, но отчужденной среде есть свидетельства изменений, а свидетели их — фланеры. Их движения и перемещения становятся стратегией исторической репрезентации.
Образы недавнего прошлого всплывают перед ними городской панорамой, превращающейся в коллективную память.
По Беньямину, город служит «мнемоническим средством для одинокого путника», придавая форму не только его личному опыту, но и опыту целой эпохи.
«Подобно тому, как фланер сопротивляется традиционной границе между буржуазным домом и общественным пространством, его вдохновленные прогулками и городскими событиями воспоминания сопротивляются границе между личной памятью и коллективной историей, переосмысливая и то и другое».
Джейми Фишер, Wandering in/to the Rubble-Film: Filmic Flânerie and the Exploded Panorama after 1945
Черновое название фильма Фрица Ланга в целом очень емко передает главный посыл: серийный детоубийца — всего лишь один из толпы, бродящий по городу среди нас, среди других. Эти смыслы задействует и Штаудте, так и называя свой фильм и обнаруживая неочевидную в то время «банальность зла»: они-нацисты-убийцы среди нас, мы и есть эти нацисты-убийцы, и нам с этим жить. Но это можно преодолеть и зафиксировать опыт (как коллективный, так и личный) и воспоминание. Фланирование и городская панорама служат инструментами этой фиксации.
Руина как коммуникация
Германия хорошо вписывается в повестку неореализма — это истории слабых, маленьких людей, поставленных в условия выживания. Дискурс нацизма интересно вплетается в повествование.
После войны агентность приобретают те «элементы» общества, которые раньше были менее значимыми, — дети и женщины, в то время как мужчины, некогда бравые солдаты Третьего рейха, прячутся по углам, больны физически или же зациклены на травмах своего смутного прошлого.
Эта мужская, точнее — отцовская, слабость является основным сюжетным двигателем истории Эдмунда. В фильме есть три опорных эпизода-заявления:
- Сестра Эдмунда Ева делится рассуждениями о том, что им было бы легче без отца, что их проблемы «не так уж плохи, пока отец находится в больнице. Но он возвращается завтра, а у нас в доме ничего нет».
- Эдмунд навещает своего бывшего учителя Хеннинга, вероятно — нациста-педофила, чтобы взять у него товары для продажи на черном рынке. Тот высказывает мнение, которое перекликается с интенциями Евы: «слабые должны умирать, освобождая дорогу сильным».
- Эдмунд посещает больницу, где лечится его отец. Тот произносит монолог, где тоже артикулирует свою обременительную для семьи позицию: «Было бы лучше, если бы я был мертв. Я часто думал, что должен покончить с собой, но мне не хватает смелости».
Примечательно, что Эдмунд в течение этих трех эпизодов практически ничего не говорит, лишь принимает информацию. Практичность Евы, естественные законы Хеннинга и вдохновленная католицизмом вина отца являют одно очевидное послание: семья процветала бы без своего отца.

Речь персонажей превращается в «какофонию лозунгов, произносимых с автоматической усталостью». Их пустые заявления, как рассуждает Моррисон, будто сделаны для того, чтобы заполнить тишину нулевого года. В них нет больше императива к какому-либо действию, однако восприимчивое детское сознание интерпретирует их в обратном ключе.
«Эдмунд сам является невнятной пустотой, неспособной придать смысл структуре фильма или мизансцене. В трещинах руин — трещинах между прошлым и настоящим — и в персонажах, чьи идеологии разрушены, не может быть честного утверждения и определенного смысла. Эдмунд представлен в фильме как своего рода трещина, разрыв в ткани фильма. Он — загадочное означающее, пространство за пределами ясного смысла. Он молча ходит по улицам и спокойно наблюдает, как взрослый мир декламирует свои реплики».
Бенедикт Моррисон, Complicating Articulation in Art Cinema
Эта «этика невнятности», как обозначает ее Моррисон, определяет и структуру самого фильма, такую же разрозненную, неустойчивую и неопределенную, как речь героев. Андре Базен в знаменитом труде «Что такое кино?» сравнивает структуру «Германии» Росселлини со «ступеньками, где разум перескакивает с одного события на другое, как человек перепрыгивает с камня на камень», — повествование, разбитое на части, без четкой причинно-следственной связи. Такой нарратив — вызов фашистской гегемонии: ясной, целостной и предполагающей абсолютный императив.
Часть со спойлером и цитатой Жижека
Конечно, фильм заканчивается убийством отца, затем совершает суицид и сам Эдмунд. Кто-то, как кинокритик Таг Галлахер, объясняет мотив «последнего солдата Третьего рейха» отголосками нацистской идеологии. Бенедикт Моррисон же, развивая свою идею об «усталой послевоенной риторике», утверждает, что действия Эдмунда — извращенный силлогизм противоположных идеологий. Склоняется к последнему и Славой Жижек.
«Поэтому его поступок неопределим, он не может быть должным образом локализован, являясь одновременно актом высшей жестокости, холодной отстраненности и свидетельством безграничной любви и нежности, готовности пойти на крайности, чтобы выполнить желание своего отца. Это совпадение (холодной, методичной жестокости и безграничной любви) является точкой, в которой терпит неудачу всякое основание действий в словах, в идеологии… Это акт „абсолютной свободы“, который на мгновение приостанавливает поле идеологического значения, то есть прерывает связь между „словами“ и „делами“».
Славой Жижек, Enjoy your symptom!
В нулевой год Эдмунд превращается в лакановское «нулевое множество», то есть в субъекта без воображаемой или символической идентификации, в пустое место.
Женщины и новый порядок
Известно, что Франсуа Трюффо был под большим впечатлением от картины Росселлини, а именно — от детского образа, лишенного сентиментальности. Отчасти этим он вдохновлялся, снимая «400 ударов». Помимо трансформации детских персонажей, в послевоенном кино стоит обратить внимание на изображение женщин, так как им определяется задача восстановления нового порядка и новой страны: активные женщины-труженицы призваны исправлять праздных мужчин-фланеров, приводить их в норму, исцелять травмы прошлого. И здесь снова вступают в силу контрадикторные отношения пространств дома и улицы. «Убийцы среди нас» хорошо демонстрируют эти гендерные и пространственные противостояния. Сюжет разворачивается вокруг того, что два героя вынуждены делить квартиру — военный хирург Ханс Мертенс и дизайнерка Сюзанна.
В то время как Мертенс бесцельно фланирует по берлинским улицам, наблюдая за руинами Германии и всё больше погружаясь в пространство травмы, Сюзанна почти всё время остается в квартире, пытаясь наладить быт: наводит порядок, достает у местного лавочника посуду и чистые скатерти. В то время как Мертенс не может снова лечить людей, разочаровавшись в своей профессии, Сюзанна уже нашла работу: ее первый заказ — плакат «Берегите детей». Самая интересная метафора восстановления и преодоления прошлого заключается в том, как герои заделывают разбитые окна в доме — с помощью рентгеновских снимков с операций Мертенса. Так высвечиваются истории болезней его пациентов, а через это — смутное прошлое героя, которое теперь ложится в основание домашнего уюта.
Дисциплина, продуктивность, «одомашненность» и наличие цели становятся ключом к заветному порядку. Женщина является носительницей этих категорий.
Сюзанна возвращает Мертенса от посттравматического синдрома — к работе, к лечению, с улицы — к домашнему очагу и к норме.
От отчаянных шатаний фланера к стремительному бодрому шагу пешехода, который направляется к дому, — такой путь проходит зритель вместе с героями «Убийц».
Сюзанна также останавливает порочный круг насилия и мести, уберегая Мертенса от убийства нацистского капитана. Так морально невинная женщина стирает следы войны и облегчает мучительные процессы памяти. С одной стороны, женщина в послевоенном пространстве наделяется большей силой и стойкостью, чем мужчины, с другой — процесс восстановления происходит через возвращение к традиционным гендерным ролям.
В 1949-м разделом Германии заканчиваются нулевые годы, как и возможность снимать критическое кино. Ведущая кинокомпания ГДР DEFA, на чьей студии и создавались «Убийцы среди нас», полностью переходит под жесткий контроль местных органов власти, в том числе Социалистической партии (СЕПГ). В Западной Германии предпочтение отдают эскапистскому жанру «хайматфильм» (с нем. «фильм о родине»), воплотившему в себе желание немцев отрешиться от фашистского прошлого, обратившись к прошлому романтическому. Критическое высказывание, в том числе о вине и войне, вернется в кино только с появлением Оберхаузенского манифеста и новой немецкой волны в лице известных режиссеров: Клюге, Фассбиндера, Херцога, Вендерса, Шретера, Шлендорфа, Оттингер и других.