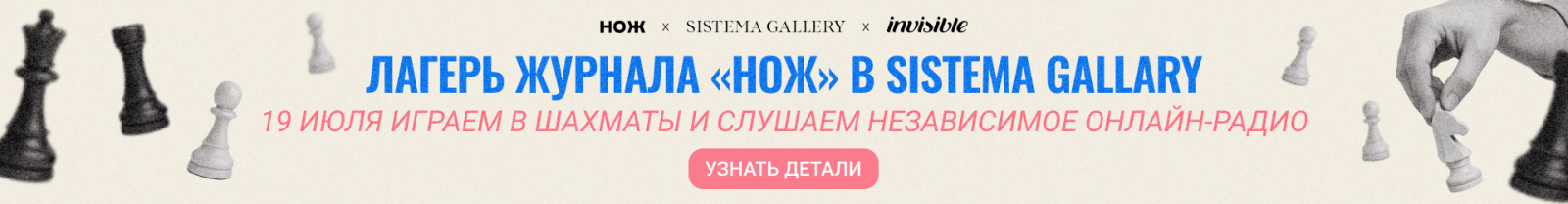Красота и уродство низких температур: метафизика зимы в русской литературе
Зимние морозы, метели и узоры снежинок всегда вдохновляли поэтов и писателей. В русской литературе символика зимы амбивалентна: начиная с XIX века и до наших дней литераторы пытались выразить ее красоту и проклятие — образы зимы могли означать как вечное забвение, так и роковую страсть или спасительное чудо. Рассказываем, чем манила, пугала и восхищала зима Пушкина, Толстого, Сорокина и других писателей.
Видишь ли… столько самого разного случается
лишь зимой, а не летом, и не осенью, и не весной.
Зимой случается всё самое страшное, самое удивительное…
«Волшебная зима». Туве Янссон
Глава 1. Век XIX
Зима преображает
Рассмотрение метафизического и психологического значения зимы в русской литературе начнем со сцены пробуждения Татьяны Лариной в «Евгении Онегине». Ранним утром она просыпается и видит узорные росчерки на стеклах. Мороз, как прилежный каллиграфист, расписал окна в доме Лариных. Через взор Татьяны мы наблюдаем заиндевевшее поместье после первого снегопада. Там все ярко и бело, там «деревья в зимнем серебре».
Философ Гастон Башляр в работе «Поэтика пространства» писал, что зима старше всех времен года. Она придает воспоминаниям давность. Покрытый снегом дом будто движется вспять, в минувшие века, поэтому зимними вечерами поместье Лариных превращается во вместилище мифа и личного предания Татьяны.
Татьяна засыпает в осеннем цвете грязевой распутицы, а просыпается, когда «зимою мир преображен». Календарно по сюжету «Евгения Онегина» зима давно идет, но главные атрибуты в виде снегопада и мороза наступили лишь на третий день января.
Пушкинская героиня влекома к стихии зимы. Она и сама ее часть. Хладная красота Лариной рацветает в «сияньи розовых ветров». С наступлением морозов меняется пейзаж, а вместе с ним и самоощущение Татьяны. Белый цвет зимы обновляет ее чувства и раскрывает витальность, скрытую ото всех.
Белоснежность выступает еще и как окраска христианского праздника — Преображения Господне. Бог Отец из светлого облака дарует откровение, что во Христе два неразделимых и неслиянных естества — божественное и человеческое. Праздник символизирует возможность духовного обновления человека, дар чистоты и смывание бремени прошлого.
«Одежды Его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить», — Евангелие от Марка.
Психологический мир Татьяны эклектичен, он вбирает в себя преданья простонародной старины, бытовой мистицизм (сны, карточные гадания, ворожба) и христианское миросозерцание. Зима воздействует на Татьяну, делая ее частью себя. Это время года в литературе пушкинской эпохи преображает холодной красотой, морозит снаружи и дает закипеть чувствам внутри. Пора греховного гадания в медовом свете печи перед христианским праздником — Рождеством.

Во многих произведениях XIX века господствует умонастроение, что человек живет в неповторимом северном универсуме, где «пустыни снежные и громады льдов». Еще нет мысли о разладе между человеком и природой. Слагаются гимны, воспевающие студеный климат. Это еще и попытка выявить одну из национальных идентичностей: мы живем в стране льда и холода, вам, чужестранцы, это не под силу.
Восторгается северной природой и поэт Петр Вяземской. «Праздник земли, на котором красуется земля и нас приветствует живельной улыбкой», — пишет он в стихотворении «Первый снег».
Но у Вяземского строчка «сын полуночной страны» невольно предвещает, что зима не только волшебница и сказительница, дарящая ковры из снегов. Ее предельные воплощения (неистовые холода, толстый лед, метель) осуществляются лишь в крае вечной полуночи, где волчье завывание и человеческая тоска аккомпанируют друг другу.
Воплощение времени и его размывание
Извилистая сеть дорог страшила Льва Толстого. После пережитых в пути экзистенциальных потрясений у него возник сюжет «путешествия-открытия». Толстой проживал в путешествиях нечто такое, что впоследствии позволяло ему описать в произведениях внутренние противоречия и этические дихотомии.
Еще до знаменитого «арзамасского ужаса», когда Лев Николаевич услышал голос смерти, он столкнулся в дороге с буйствующей метелью. «24 января 1854 года в Белогородцевской плутал целую ночь. Мне пришла мысль написать рассказ „Метель“. Вел себя не совсем хорошо. Трусил во время метели», — записал он в дневнике.
Метель в безмолвной степи — это другой портретный лик зимы. В бескрайней равнине у героя Толстого теряются привычные ориентиры во времени и пространстве. Нет даже одинокого стога сена, в котором можно укрыться. Человек отдан ветроснежной стихии.
«Я как будто жил-жил, шел-шел и пришел к пропасти и ясно увидал, что впереди ничего нет, кроме погибели. И остановиться нельзя, и назад нельзя, и закрыть глаза нельзя, чтобы не видать, что ничего нет впереди, кроме обмана жизни и счастья и настоящих страданий и настоящей смерти — полного уничтожения».
«Исповедь». Лев Толстой
Одно из определений времени — это непрерывное нарастание бытия, когда абсолютно неизвестно, что будет через секунду, и кажется, что прошлое совершенно потеряно и никакие силы не могут остановить этот поток.
У Толстого воспроизводится неудержимость потока в виде метели. Зима предстает в двух противоречивых образах времени: физически воплощенном (метель) и отсутствующем, когда его (времени) попросту нет, а человек выпадает из обыденного хронотопа жизни. В пустом, нерасчлененном пространстве наши чувства теряют меру времени.
Первые фразы «Метели» обращены к ямщику: «Не заблудиться бы нам? Доедем до станции, ямщик? не заблудимся?». Тревожность рассказчика не случайна — в тумане интуиции нарастает страх перед неизвестностью. Степь и метель грозят тем, что поглотят путников, лишив прошлого и будущего.
По мере того, как снегопад усиливался, а вернуться на станцию было уже нельзя, жизнь путников размывается. Их ждет дорога в никуда, ведь заметены звериные тропы и контуры пути. Поэтому персонажи выпадают из размеренного течения времени своей жизни, когда видна перспектива будущего. «Только видишь снег, который мимо глаз падает на лицо и воротник шубы; небо везде одинаково светло, одинаково бело, бесцветно, однообразно и постоянно подвижно», — так герой рассказа наблюдает за физически воплощенным временем, существующем только в настоящем.
Память спасает героя от зимы
Движение времени подобно спирали. Это переживание нового, но с памятью о пережитом, которое сосуществует с новым в одной точке бытия. Философ и богослов Августин полагал, что все три формы времени можно уместить лишь в духе: «Настоящее прошедшего — память, настоящее настоящего — созерцание, настоящее будущего — ожидание».
Протагонист «Метели» спасается от смертельного однообразия стихии, неосознанно следуя мысли Августина: прошедшее превращается в настоящее силой сна и памяти. Он погружается во время ненастья в сон — это резервуар, в котором покоится летнее воспоминание. Оно позволяют ему обрести прошлое, чтобы заполнить возникшую бездну в поле.
Рождается виртуальный образ, в котором спину рассказчика напекает знойное июльское солнце, а разум пьянит запах скошенной травы в саду. Ему снятся колючие стволы раскидистого шиповника и «просвечивающее ярко-голубое зеркало пруда». Шиповник создает крепость и нерушимость памяти, ведь он обладает зимостойкостью.
Ливень расплавленного золота в виде солнечных лучей освещает всю экспозицию сна. У путника возникает светоносное воспоминание, останавливающее движение смерти. Но еще он видит во сне утопленника. Труп крестьянина в пруду — это реванш смерти за то, что ей не удается забрать рассказчика.
Литературовед Юрий Лотман полагал, что сновидение погружает человека в «нереальную реальность» — синтез зрительных, словесных и музыкальных пространств.
«Нереальная реальность» рассказчика — июльский полдень со снующими мухами, клумбой шиповника и прогретым на солнцепеке прудом. Но физически герой находится под нескончаемым снегопадом, поэтому прошлое не приходит на место настоящего, а сосуществует с ним.
Метель обеспечивает рассказчику иммерсивный опыт, и тот оказывается одновременно в расщеплении и соединении времени. Пользуясь определением Жиля Делеза, можно сказать, что в «Метели» Льва Толстого путник получает «образ-кристалл» времени:
«Образ-кристалл представляет собой точку неразличимости двух отчетливо выделяемых образов — актуального [метель. — Прим. авт.] и виртуального [cон о летнем дне. — Прим. авт.]. Он формируется посредством фундаментальной операции, проводимой временем: прошлое складывается одновременно с настоящим, удваивая каждое мгновение времени».
Зима — это утрата себя
Затерянность в снежном вихре страшила не только Толстого. Утрата себя в зимнем пути — расхожая опасность для путешествующих. Историк Николай Костомаров отмечал, что с наступлением снегопада приходилось заниматься проложением дороги таким образом, чтобы ее контуры не заметались. В виду слабого развития дорожной системы нередко люди терялись.
Пушкин видит в метели энергию противоборства человеку. Вьюга злится, плачет, воет — и в мелодику ее истерики попадает герой пушкинской «Метели», Владимир. Он сбился с дороги, оказавшись в снежном омуте, когда ехал за своей возлюбленной, чтобы совершить с ней побег. Его сани поминутно опрокидывались в сугробы и овраги. Ему не видно было ни зги.

Свирепая стихия предстает как ветхозаветная сила наказания за чрезмерную страсть мятежных любовников. Сопротивляющийся стихии Владимир обречен на вечное расставание с возлюбленной.
Роковая предопределенность музицирует и в стихотворении Александра Сергеевича «Бесы»:
Вьюга мне слипает очи;
Все дороги занесло;
Хоть убей, следа не видно;
Сбились мы. Что делать нам!
В поле бес нас водит, видно,
Да кружит по сторонам.
Снежинки в «Бесах» — дьявольские силы, их хаотичное кружение, визг и жалобный вой надрывают сознание. Человек распадается на иллюзорные оттенки, происходит растождествление с внутренней целостностью, когда в себе себя не находишь. Образовывается ничем не заполняемый экзистенциальный вакуум в заснеженном поле. На символическом уровне поле — это жизнь и судьба человека, а выход из потерянности один — смерть. Улетают трепещущие мгновения жизни вместе с хлопьями снега.
Эмблематично заканчивается и роман «Отцы и дети» описанием зимнего пейзажа у могилы Базарова.
«Январский день уже приближался к концу; вечерний холод еще сильнее стискивал недвижимый воздух, и быстро гасла кровавая заря», — так начинается эпилог романа.
Накренившиеся кресты, буераки и буреломы, пустошь и кладбищенское молчание — все это отменяет жизнь. Всему надлежит укрыться под саваном зимы, а затем возродиться в вечности. Тургенев погружает своего мятежного нигилиста в непрерывный сон, а миру без него остается зимовать и наблюдать за кровавой январской зарей.
Так возникает еще один лик зимы.
Язык вечного сна и покоя
Лотман назвал сон семиотическим зеркалом, в котором каждый видит отражение своего языка. Это индивидуальная и личная среда, «язык для одного человека». Почти всегда его трудно пересказать детализировано, как и, например, содержание симфонии Баха. Хрупкость сновидения, по мнению Лотмана, несет в себе особую ценность, ведь его пространство можно наполнить смыслами и истолкованиями.
Глава «Сон Обломова» в романе Гончарова представляет собой «язык одного человека» — Ильи Ильича Обломова. Символика пейзажа в этой главе — ключ к пониманию «обломовщины». Гончаров отправляет своего персонажа в личный рай детства — в осовелую Обломовку.
Зима в Обломовке не насылает холода, она не ледяная ведьма, превращающая сердца людей в сосульки. Зима во сне Обломова — убаюкивающая красавица, милостивая к жителям сонного царства, напевающая им колыбельные. Лишь бы крестьяне и помещики не тревожились и спали. Она одна из хранительниц их вековой бездеятельности.
Бездеятельность Обломова обретает черты буддийского состояния «недеяния» — У-вэй. Согласно принципу У-вэй, миром нельзя манипулировать через злодеяния. Трагедия в том, что человек выращивает в себе внутренних демонов: злость, ревность, обиды, подчинение другого, страхи и нескончаемую вереницу пороков. Поэтому любое деяние, даже на первый взгляд благонравное, грозит злом.
Созерцательную пассивность проповедовал Лао-цзы — основоположник даосизма и автор философского трактата Дао Дэ цзин. Но абсолютное недеяние лежебоки Ильи Ильича амбивалентно: это можно трактовать и как буддийское священнодействие, и как распад личности из-за ленности.
Красавице-зиме в романе Гончарова противоположна летняя Ольга, пробуждающая Обломова. Их чувства загораются во время весеннего цветения сирени и длятся все лето. Ольга нарушает «недеяние» Ильи, выводит его из вековой дремы, но подкрадывается зима — хранительница языковой идентичности героя.
Символично, что Обломов расстается с Ольгой, когда идет снег. Вновь зыбкая неоднозначность поступка. Можно сказать, что Илья Ильич жертвует собой, неосознанно идя на смерть, ведь смысла в активной жизни без Ольги нет. Он понимает, что ему не исправиться, а Ольге нужна кипящая жизнедеятельность. Илья Ильич не желает дарить ей иллюзий, обманывать ее. Вместе с тем Обломов не пытается сохранить чувства.
«Снег, снег, снег! — твердил он бессмысленно, глядя на снег, густым слоем покрывший забор, плетень и гряды на огороде. — Все засыпал! — шепнул потом отчаянно, лег в постель и заснул свинцовым, безотрадным сном».
Так зима оказывается носительницей «индивидуального языка героя». Это язык вечного сна и нерушимого покоя, где лишь и возможна полная актуализация Обломова. Снег, как часть художественного мира романа, через потаенную речь героя раскрывает тот объем психологической информации о нем, который недоступен для передачи средствами обыденного языка.
Метафорике вечного сна созвучна и поэзия Федора Тютчев. Зима в его стихах — «вековая дремота», находящая себе обитель в глухом лесу. В лесном молчании она возводит сакральный храм, где сосуществуют вечность и недвижимость времени. Там застыл нерушимый покой, и под снежной околдованностью накренилась келья монаха-черноризца у игольчатой ели.
В поэтике Тютчева снега на верхушках гор и «выси ледяные», играющие «с лазурью неба огневой», очищают от внешней суеты и кристаллизуют c чистотой бриллианта жизнь. Это воплощенная идея бессмертия души, вмещающая в себя одновременно и огонь, и холод.
Глава 2. Век XX
Зима-трилистник
В 1910 году у поэта Иннокентия Анненского выходит поэтический сборник «Кипарисовый ларец». Анна Ахматова в стихотворении памяти Анненского написала, что его поэзия — это «предвестье и предзнаменование». В «Кипарисовом ларце» он тематически объединил стихи в трилистники. Открывает сборник трилистник сумеречный, в котором рифмуются мотивы сгущающейся мглы неизвестности под снегопадом.
Наша улица снегами залегла
Под снегами лежит сиреневая мгла.
Эти строчки служат смутным предзнаменованием грядущих катастроф века. Воспользовавшись концептуальным образом Анненского, аллегорично представим зиму в литературе XX века в виде трилистника, состоящего из лепестков предчувствия, ада и укрытия.
Зима как страсть и предчувствие
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых.
Каждое событие — это мгновение, переливающееся из области будущего, где все неведомо и зыбко, в область прошлого, где все закончено и неизменно. И поэзия призвана остановить это мгновение, придав ему завершенность и определенность. Для этого она должна обратить событие из неуловимого в ощутимое. Так размышлял о призвании поэзии великий литературовед Михаил Гаспаров.
Многие знаковые произведения и общественные настроения в начале ХХ столетия покрыты пеленой неизвестности. Грядущий век мерещится и в страшно-черных, и неуловимо-белых цветах.
Мысль Гаспарова — ключ к толкованию зимнего цикла стихов Александра Блока «Снежная маска». Блок вглядывается будущий век, превращая неуловимость в ощутимость через образы зимы. Сборник фиксирует эсхатологическую лиминальность времени. Этот термин ввел этнограф Арнольд ван Геннеп, обозначив им переходные исторические этапы, когда человек оказывается путешественником из одной эпохи в другую.
Имплицитно в «Снежной маске» представлена всепоглощающая страсть Блока к актрисе Наталье Волоховой. Страсть, как и преступление, не терпит упорядоченности. По словам Томаса Манна, роковая страсть надеется извлечь выгоду из смятения окружающего мира. Перегретостью чувств она порождает катастрофы. Все эти симптомы отчетливо проступают у Блока. Они воплощаются в поющих вьюгах и снежных вихрях, бросающих в бездну. Метель в «Снежной маске» демонически взвивается, срывая звезду за звездой. До Блока через бушевание вьюги Толстой выражал роковое влечение Карениной и Вронского.
Сны метели светлозмейной,
Песни вьюги легковейной,
Очи девы чародейной.
У Блока повсюду почивает мрак. Бураны и снегопады, симфонизм вьюги и пурги служат образами роковой женщины. Она испепеляет эротизмом и запредельной влекомостью к ней. Незнакомка «вжигает ему золотистый уголь в сердце». Она поглощает героя, опустошает его, за «туманными морями» любовники сгорают, ведь они были венчаны зимней мглой и тиарой. А после оргазмического слияния на снежном поле под звонкой вьюгой одного из них ждет смерть.
У меня в померкшей келье —
Два меча.
У меня над ложем — знаки
Черных дней.
«Рукой подъятой тучам, ты влечешь меня к безднам», — строчка, пророчествующая гибель не только для того, кто опален страстью. Роковые потрясения в виде голода, войн и репрессий грозят всем. Поэт это чувствует, глядя в будущей век.
И взвился костер высокий
Над распятым на кресте.
Равнодушны, снежнооки,
Ходят ночи в высоте.
Зима — ад
Мартин Хайдеггер называл конец всего живого околеванием, то есть замерзанием, затвердеванием от сильного холода. В письме Алексея Лосева, отбывавшего срок в 1930-1933 годах на строительстве Беломорканала, жене тоже говорится про околевание.
«Я знаю, как тут умирают. И когда я околею на своем сторожевом посту, на морозе и холоде, под забором своих дровяных складов, и придет насильно пригнанная шпана (другой никто не идет) поднять с матершиной мой труп, чтобы сбросить его в случайную яму (так как нет охотников рыть на мерзлой земле нормальную могилу), — вот тогда-то и совершится подлинное окончание моих философских воздыханий и стремлений, и будет достигнута достойная и красивая цель нашей с тобой дружбы и любви. Вот почему трудно примириться с теперешним положением, где гораздо больше смерти, чем жизни, и — сплошное безумие. Это не живой ум бытия и личности, а мертвое безумие небытия и безличия. Как это пережить?»
Ярость холода в лагерном ХХ веке становится частью коллективной травмы. Человек репрессирован в зиму, в гибель всякой жизни и в дом смерти. В нем оказывается и Варлам Шаламов — страстотерпец и великомученик русской литературы. В описанном им колымском лагере советский зэк заточен в недвижимые сугробы, как в каррарский мрамор, а высокоствольные деревья — немые часовые, стерегущие арестантов от побега.

В «Колымских рассказах» и поэзии Шаламова зима несет страдание. Она фиксирует участь обреченного лагерника, лежащего на ледяных нарах и выплевывающего зубы от цинги.
И бронхи рвет мои мороз
И сводит рот.
И, точно камни, капли слез
И мерзлый пот.
Зимнее укрытие
У Шаламова и Пастернака были теплые отношения. Но зимние образы у писателей отличаются. В стихотворении Бориса Пастернака «Зазимки» зима полна чудесами в решете. Она у Бориса Леонидовича словно покрывало — укрывающее и прячущее. Зима может дописать любимую книгу «первою метелью». Зимой случается чудо — Рождество Спасителя.
Настроение в зимних произведениях Пастернака сменяется с коллективного общего на уединенное частное. В нем человек с умиротворением наблюдает рождественскую звезду и волхвов, идущих в пещеру к младенцу Христу.
Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потемках, немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.
Звезда Рождества у Пастернака — глаз зимы, в котором отражается воссиявший свет разума. Необходимо сверх-событие, способное оживить мир и обратить лицо заключенного от тюремной стены к вечному небосводу, который его освободит. Зимняя пещера укрывает потенциальную возможность спасения через рожденного Спасителя. В тиши зимней ночи подступает чудо.
Только в этом всеобщем безмолвии влюбленные могут спрятаться ото всех, чтобы случилось скрещенье рук.
Эпилог. Век XXI
Новое пришествие метели
Согласно Сорокину, зима — это время мистического нисхождения неба на землю. По его словам, «снег скрывает стыд нашей земли». Зима, по Сорокину, воплощает метафизику русской жизни.
«Очень хорошо пишется зимой. Мне хотелось давно написать безнадежную повесть. Я выбрал для „Метели“ язык девятнадцатого века», — говорил Сорокин.
Герой еще одной снежной повести в русской словесности — доктор Платон Гарин. Натянув малахай, он отправился в дорогу, чтобы отвезти вакцину в деревню Долгое, где поселился коварный боливийский вирус, превращающий людей в зомби.
«Метет… — думал Платон Ильич, торопясь докуривать быстросгарающую на ветру папиросу».
Настрой Гарина в процессе путешествия меняется. В начале повести он пассионарий, которого не смущает непогода за окном. Главное для Гарина — довезти вакцину, чтобы спасти людей от эпидемии. Из-за нарастающего страха перед непогодой доктор впадает в упадничество. Он понимает, что никогда не выберется из «проклятой бесконечной зимней ночи». Овраги поглотили все, а бесконечный снег, валящий с темного неба, заносит Гарина и его следы.
Человека XIX века и XXI-го в повести Сорокина роднит зима: «Это размер страны, размер этих полей, во многом безжизненных, это затерянность людей в пространствах. И главный персонаж, порождаемый этим пространством, — зима и метель».
Владимир Георгиевич доводит до предела пространственную и климатическую драму. Хрупкое психологическое равновесие героев поглощается зимним колючим морозом. У Сорокина Россия утопает в белом дыму разгулявшейся вьюги. Но он любуется ее кристальной красотой, которая возможна лишь при низких температурах.
В зимней семантике прозы Сорокина фиксируется ледяная скульптура. Это то, что Владимир Набоков в романе «Дар» назвал тройной формулой человеческого бытия: невозвратимость, неизбежность и несбыточность.
«А куда спешить против холода, ветра и снега? Родились мы в снегу — вьюга нас и схоронит». Эти бунинские строки подводят черту в нашей зимней истории — ведь чистейший саван зимы заметает жизнь.