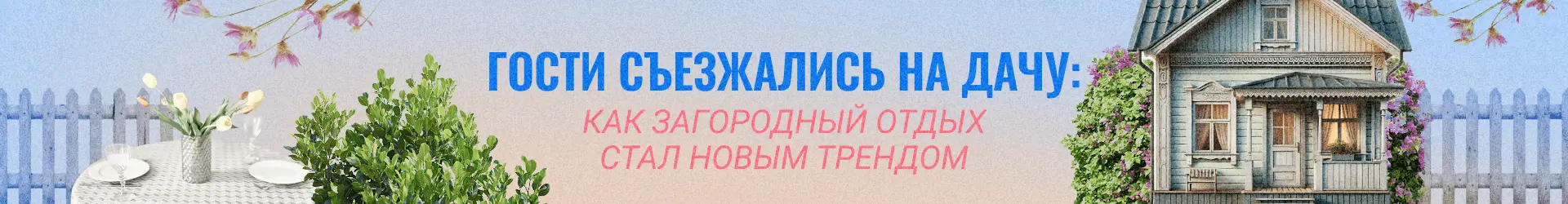Следует ли сжечь классиков? Классическая филология в ХХI веке
В издательстве «Альпина Паблишер» выходит книга «Переписывая прошлое: Как культура отмены мешает строить будущее» французского филолога-классика и историка античной философии Пьера Весперини. Автор анализирует «культуру отмены» — современную форму нетерпимости к прошлому, которая пытается избавиться от наследия любых авторов, мыслителей и исторических деятелей, не соответствующих «эмансипированным» и «деколонизированным» представлениям XXI века. Публикуем эссе и интервью, посвященные состоянию классических наук в Принстоне и современном мире в целом.
Необычайный и захватывающий кризис, охвативший сегодня европейскую культуру во всем мире, не мог миновать классическую филологию. Сейчас во Франции мы наблюдаем лишь отдельные вспышки — споры об «Оаристисе» Шенье, скандал вокруг «Просительниц» Эсхила.
Чтобы узреть этот ад во всем его размахе (и, не побоимся этого слова, великолепии), следует отправиться в США. Ибо — если оставить за скобками растерянность, вызванную крайностями одних и посредственностью других, — этот период в европейской культуре был исторически обусловлен. И в нем, как и во всем, на чем история оставляет свой след, присутствует некое величие.
Каждые выходные газета The New York Times предлагает читателям «большое чтение» — рассказ или эссе. В феврале 2021 года одна из публикаций в этой рубрике была посвящена принстонскому профессору антиковедения Дэну эль-Падилье Перальте. Ее заглавие звучало так: «Он хочет спасти классическую филологию от „белизны“. Выживет ли при этом дисциплина?».

Два года назад Падилья Перальта произвел фурор на ежегодной конференции Общества античных исследований. Темой конференции было будущее классических штудий. Все ее участники, как пишет Times, сошлись во мнении, что это будущее находится под угрозой:
«Помимо общих проблем всех гуманитарных наук, таких как сокращение набора из-за урезания бюджетов, снижение престижа и рост закредитованности студентов, классическая филология переживает кризис идентичности. Эта наука, долгое время считавшаяся основой „западной цивилизации“, теперь стремится избавиться от репутации, которую сама же себе и создала, — элитарной дисциплины, что преподают и изучают преимущественно белые мужчины».
Поэтому все с огромным интересом ждали предложений профессора из Принстона, которого Times считал «одним из ведущих специалистов по истории Древнего Рима». Но вместо того чтобы представить план кампании по спасению этой науки, Падилья Перальта начал ее громить. Вот как это было описано в Times:
«Падилье понадобилось десять минут, чтобы составить обвинительное заключение для своей области знания. „Если бы кто-то задался целью создать дисциплину, институты и протоколы контроля которой были бы явно направлены на делегитимацию цветных ученых, — говорил он, — он не смог бы придумать ничего лучше того, что сделали с классической историей и литературой“. Падилья довольно бескомпромиссно высказался о „соучастии филологов-классиков в системной несправедливости“ <…>. Он назвал свою дисциплину „одновременно вампиром и каннибалом“, опасной силой, которая ранее использовалась для убийства, порабощения и угнетения. „Он выразил сомнение в том, что эта дисциплина заслуживает будущего“, — прокомментировал Денис Фини, латинист из Принстона».
Вот уже несколько лет, объясняет Times, Падилья «открыто говорит о вреде, причиненном классиками за два тысячелетия, прошедших со времен Античности, [имея в виду] оправдание рабства, расовой теории, колониализма, нацизма и других фашистских движений XX века с помощью классических текстов».
Итак, пишет Times, подытоживая его размышления, «классика и „белизна“ — это кости и мышцы одного тела: они росли и крепли вместе и, возможно, должны вместе умереть». Некоторые специалисты по классическим дисциплинам, опрошенные Times, возражают Падилье. Они говорят, что классика действительно использовалась для оправдания ужасов современности, но одновременно она воспитывала и тех, кто боролся с этими ужасами. Снова приведу цитату из Times, чтобы максимально точно передать суть американских дебатов:
«Именно на античные тексты опирались в своей борьбе за равенство движения за гражданские права и маргинализованные группы по всему миру, начиная с афроамериканцев и заканчивая ирландскими республиканцами и гаитянскими революционерами, которые считали своего лидера, Туссена Лувертюра, черным Спартаком. Для феминисток, таких как Симона де Бовуар, героини греческих трагедий — неукротимые, одержимые справедливостью разрушительницы, подобные Медее Еврипида, — стали символами сопротивления патриархату, а описания однополой любви в поэзии Сафо и в платоновских диалогах давали надежду и утешение писателям-геям, таким как Оскар Уайльд».
Таких примеров можно привести множество, включая Нельсона Манделу, который читал древнегреческие трагедии в своей тюрьме на острове Роббен и даже играл Креонта в «Антигоне» Софокла, а позже говорил своему биографу:
«Такие пьесы, как „Антигона“ <…> Понимаете, эти греческие пьесы действительно стоит прочитать. Это как классика, понимаете, произведения Толстого и тому подобное, потому что после чтения <…> этой литературы вы всегда выходите из нее <…>, ощущая себя очень возвышенными и углубив свою чувствительность к ближним. Это одно из величайших переживаний <…>, которые можно испытать, понимаете, — чтение греческих трагедий и греческой литературы в целом».
Падилья, однако, «не согласен с коллегами, которые говорят о прогрессивном (радикальном) использовании античной литературы», поскольку «считает, что такие примеры меркнут перед лицом долгого союза этой научной дисциплины с силами господства и угнетения». Вполне справедливо.
Другие коллеги утверждают, что эта дисциплина уже давно перестала защищать «белизну». Напротив, «курсы по гендеру и расе в Античности стали обычным делом и пользуются большой популярностью у студентов». Начиная с 1970‑х годов появилось довольно много работ, посвященных «женщинам, низшим слоям населения, рабам и иммигрантам» в античном обществе. При этом ученые-классики один за другим разрушают мифы о «белизне».
Но и этого недостаточно, считает Падилья. Работа этих ученых заключается не в том, чтобы «указывать пальцем на ту или иную ложь», заявил он на конференции в 2017 году. «Недостаточно просто занять позицию профессора, квалифицированного специалиста по истории Древнего мира и классической филологии, который много знает и может заметить эти ошибки».
Что же следует делать?
Следует взорвать канон и радикально пересмотреть дисциплину. Классические науки заслуживают выживания только в том случае, если станут «протестной площадкой» для сообществ, которые были их жертвами.
Но, возможно, даже этого будет недостаточно, и тогда придется, сообщает Times, «распустить кафедры классической истории и филологии и перераспределить их сотрудников на кафедры истории, археологии и иностранных языков».
В данном случае кризис европейской культуры проявляется не столько в серьезности выступления Падильи, сколько в невероятно низком уровне аргументов его противников.
Когда разгорается спор, который может иметь столь далекоидущие последствия, ограничиться приведением противоположных примеров — худшая тактика контрнаступления из всех возможных. Напротив, нужно рассуждать диалектически, то есть отталкиваться от аргументов оппонента и показывать, чего они стоят на самом деле.
Ведь достаточно присмотреться к ним повнимательнее — и станет видно, что они опираются на ряд логических недоразумений. Итак, давайте на минуту допустим, что классическая филология действительно представляет собой то, что описывает Падилья. Сотни, тысячи примеров доказывают, что его описание неверно. Но предположим, что он прав. Почему это должно привести к отмене самой дисциплины?
Что такое классическая филология? Это наука, цель которой заключается в постижении греко-римской Античности через изучение древнегреческих и латинских текстов. Именно изучение текстов отличает ее, например, от древней истории, где встречаются (увы, все чаще) люди, обладающие лишь весьма фрагментарным знанием древнегреческого и латыни.
Делая из своего описания классической филологии вывод о необходимости ее упразднения, Падилья совершает первую логическую ошибку: он путает цель дисциплины с ее практикой. Если бы классическая филология работала так, как он говорит, это означало бы, что она стремится к своей цели не так, как должно. Например, целью физики является постижение природы. Веками в университетах преподавали аристотелевскую физику — неверную, как теперь всем известно. Поэтому Галилей, Декарт, Ньютон говорили, что физику нужно преподавать иначе. Но они не говорили, что физика должна быть уничтожена.
Если же мы решаем, что какую-то дисциплину нужно упразднить, потому что она функционирует неправильно, то отсюда следует, что уничтожены должны быть все дисциплины. Ведь со времен первых университетов богословы, философы, врачи, юристы, биологи и физики обслуживали и оправдывали самые отвратительные преступления. Так почему нужно как-то выделять из всех ученых именно филологов-классиков? Неужели мы считаем, что историки, лингвисты и археологи вели себя более добродетельно, чем латинисты и эллинисты? Достаточно вспомнить масштабное соучастие археологии в преступлениях фашизма и нацизма.
Впрочем, все это слишком хорошо известно, так что нет нужды приводить еще какие-то примеры. Их бесчисленное множество. История западного университета на протяжении многих столетий была историей власти, которая служила верховной власти. Но и в этом случае речь идет о практике, которую следует отличать от истинной цели всех наук — поиска истины.
Здесь кроется вторая логическая ошибка. Давайте снова начнем рассуждение с аргумента Падильи. Греки и римляне вели себя плохо (у них были рабы, женщины не могли выходить на улицу с непокрытой головой и т. д.), а значит, наука, которая их изучает, должна быть уничтожена. Но изучать — одно дело, а одобрять — совсем другое. Ученый описывает, но не выносит суждений. Классический филолог, который одобряет или осуждает древних авторов, ставит себя вне науки. Он имеет полное право высказывать свое мнение, если хочет, но не вправе выдавать это мнение за научное знание.
Так мы подходим к третьей логической ошибке. Классическая филология может выжить, только если станет «протестной площадкой». Но научные дисциплины не предназначены для какой-либо политической роли. Опять же, исследователь имеет полное право (а то и обязанность) принимать на себя политические обязательства, в том числе основанные на его научной деятельности. Хрестоматийный пример — Пьер Бурдье. Но его научную деятельность ни в коем случае нельзя рассматривать как политическую. Главное в науке — поиск истины. И эта цель ни в коем случае не должна подчиняться политическим убеждениям исследователя.
В статье упоминается случай с чернокожей аспиранткой: «Дочь владельца похоронного бюро из Нью-Мексико [рассказывает], как перед приездом в Принстон опасалась, что не сможет совместить свой интерес к классической филологии с приверженностью социальной справедливости. „Я боялась, что не смогу изучать древних авторов и менять мир к лучшему так, как мне хотелось бы“, — утверждает она. „[Благодаря Падилье Перальте] мое представление о том, что могут делать [филологи-классики], изменилось“».
Не знаю, сможет ли эта аспирантка «изменить мир к лучшему», но в одном я уверен: она не сможет выполнять качественные исследования, если не отделит их от политики. А выполняя некачественные исследования — то есть те, которые можно будет легко опровергнуть, — она тем самым будет дискредитировать свою политическую активность.
Примером подобной ошибки стала недавняя прискорбная дискуссия между Падильей и известным кембриджским историком Мэри Бирд, в ходе которой Бирд стремилась представить древних римлян предшественниками счастливого мультикультурализма, а Падилья утверждал, что на самом деле они были дальними предками трамповской ксенофобии.
Поэтому удивительно, что речь, в основе которой лежат сразу три логические ошибки (смешаны функция и цель, изучение и одобрение, наука и политика), настолько сильно потрясла американские и британские академические круги.
Если мы видим, что кому-то отказывает способность здраво рассуждать, следует задуматься, какие отрицательные аффекты помешали сохранить ясность мысли.
А чтобы определить отрицательные аффекты, сыгравшие свою роль в этом эпизоде, который может оказаться решающим для будущего классической филологии, необходимо осознать и четко назвать их источник: расизм.
Не зная масштабов расизма в США, невозможно понять ни бескомпромиссность Падильи Перальты, ни бессилие его коллег.
Падилья демонстрирует явное стремление к разрушению.
«Меня не интересует уничтожение ради уничтожения, — говорит он. — Я хочу строить». Строить что? Неизвестно. У Падильи нет другой программы действий, кроме разрушения классической филологии. Откуда столько ненависти, спросите вы? Ответ — в статье.
Используя образ, предложенный в свое время Джеймсом Болдуином, Падилья рассказывает, как классические штудии стали для него входным билетом для интеграции в американскую систему. Но, когда он стал признанным антиковедом, его настиг экзистенциальный кризис:
«Падилья начал чувствовать, что потерял что-то, посвятив себя классической филологии. Как отмечал Джеймс Болдуин тридцатью пятью годами ранее, у билета есть цена. <…> „Мне пришлось активно заняться деколонизацией своего сознания“, — сказал он мне».
Похоже, Падилья хочет наказать классическую филологию за то, что она стала для него тем самым билетом, о котором писал Болдуин. Вот почему он призывает к суду над классическими дисциплинами.
Но обвиняемый, оказавшийся на скамье подсудимых, совершенно не похож на его описание. Классическая филология уже давно перестала быть той дисциплиной, которую он бранит. Она не только отказалась от воспевания достижений белой цивилизации, но и сыграла фундаментальную роль в деколонизации европейской культуры. Достаточно вспомнить так называемую парижскую школу, возглавляемую Жан-Пьером Вернаном и Пьером Видаль-Наке, идеи которой и сегодня пользуются огромным авторитетом на американских кафедрах классических дисциплин. Именно научное изучение Античности позволило разрушить связанные с ней мифы. Вспомним, например, три классические работы: «Гомер и Даллас» Флоранс Дюпон, которую гневно раскритиковал Ален Финкелькрот; «Сравнивая несравнимое» Марселя Детьена, которая развеяла образ Афин как первой демократии; «Против корней» Маурицио Беттини, заслужившую ненависть крайне правых. Можно еще долго перечислять имена ученых, чьи исследования деконструировали наши социальные устои, показав их историческую обусловленность и продемонстрировав, как, начиная с Античности, можно было изобретать совсем другие нормы.
Кто будет выполнять эту работу, если мы упраздним классическую филологию?
Здесь мы и вступаем на почву полной иррациональности — иррациональности отрицательных аффектов, порожденных расизмом.
Коллеги Падильи, оппонирующие ему, словно парализованы чувством вины — еще одним отрицательным аффектом того же происхождения. Они не осмеливаются критиковать Падилью прямо и лишь пытаются его успокоить, приводя примеры хорошего использования классической филологии. В результате его дискурс начинает преобладать в научных кругах. Студенты Принстонского университета признавались Фини, что им «стыдно говорить друзьям, что они изучают классическую филологию». Фини не нашел иного ответа, кроме как: «Полагаю, это печально».
Стремление к уничтожению, чувство вины, стыд, печаль. Недостает еще одного мощного «отрицательного аффекта» — страха. На самом деле, как пишет в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung профессор истории Древнего мира Бернского университета Штефан Ребених, «в США сейчас доминирует „деколонизированная“ наука об Античности. Почти никто уже не осмеливается вступать по этому поводу в публичную дискуссию и повторять неоспоримые основы научного знания».
Для мониторинга академического дискурса Падилья и трое других ученых из Принстона предложили в открытом письме, опубликованном в июле 2020 года, создать в Принстонском университете комитет, который бы «следил за соблюдением дисциплины в отношении поведения, инцидентов, исследований и публикаций расистского характера». На этот раз кое-кто выступил против. «Меня беспокоит, каким образом исследование определяется как расистское, — сказал один профессор в интервью газете Times. — Эта черта постоянно сдвигается. Наказывать людей, проводящих исследования, за то, что кто-то посчитал их расистскими, не кажется мне правильным решением». Но для Падильи проблемы со свободой высказываний не существует, как он сам говорит в интервью Times: «Я не считаю свободу выражения мнений или обмен идеями целью, к которой нужно стремиться. Скажу откровенно — я рассматриваю то и другое скорее как средство развития человека». Это развитие человека, которому должна быть подчинена свобода, представляющая собой лишь средство достижения цели, звучит очень знакомо. Перед нами формула всех тоталитарных антиутопий.
Бертран Рассел называл наше время самым местечковым (parochial) из всех. Это особенно справедливо для американской академической культуры. Она совершенно забыла о том, как сложна История. Все труды, опубликованные не на английском — будь то французский, итальянский или немецкий, — просто-напросто игнорируются. Античность для классических филологов больше не объект изучения, не самоцель, а всего лишь еще одна площадка для современных политических дебатов.
Незнание языка также укладывается в эту тенденцию. Мысль, что упразднение классической филологии повлечет за собой прекращение изучения древнегреческого и латыни, похоже, не пришла в голову Падилье и его сторонникам. Но ведь именно знание текстов на языке оригинала позволяет освободить их от анахроничного империализма, который сегодня наступает со всех сторон.
Незнание неизбежно приводит к чрезмерному упрощению, а чрезмерное упрощение — к поляризации спора. Поляризация разрушает дух дискуссии, подпитывает агрессию одних и бессильное молчание других. Таким образом, отказ от знания ведет к разрушению культуры.
•••
Вскоре после написания этой статьи Принстонский университет отменил требование знать латынь или древнегреческий языки для поступающих на курс классической филологии. По этому случаю я дал журналу Philosophie Magazine следующее интервью.
Читайте также
Старейшие мертвые белые европейские мужчины: в защиту очерненной Древней Греции
Интервью журналу Philosophie Magazine
Николя Гастино: Одной из причин решения, принятого Принстоном, был тот факт, что древние языки гораздо менее доступны для студентов из неблагополучных слоев населения или с меньшим культурным капиталом, в частности для цветного населения США. Сделав изучение этих языков факультативным, Принстон намерен повысить инклюзивность и разнообразие классических штудий. Что вы думаете об этих аргументах?
— Прежде чем ответить на ваш вопрос, я хотел бы рассмотреть его контекст. В случае США мы имеем дело со страной, разделенной так называемым цветным барьером. Во Франции мы недооцениваем значимость этого разделения. Поскольку расизм, к сожалению, знаком и нам, мы склонны предполагать, что в США он выглядит так же, как здесь. Но это страна, где уровень насилия на расовой почве не сравним с нашим: уже после смерти Джорджа Флойда полицией были убиты шестнадцать цветных американцев. Это страна, где бывшие рабовладельческие штаты принимают бесчеловечные законы о выборах, чтобы помешать беднейшему населению голосовать (например, запрещают предлагать еду и воду людям, стоящим в очередях перед избирательными участками), или отправляют цветного в тюрьму на двадцать лет за кражу двух рубашек.
Разумеется, это расовое разделение проявляется и в образовании. С черными детьми учителя (как правило, белые) обращаются не так, как с белыми, — черным гораздо чаще ставят низкие отметки, их чаще наказывают и выгоняют из школы. В этой связи стоит прочитать недавно опубликованный в The Washington Post красноречивый рассказ «благонамеренного белого учителя», который под старость стал испытывать угрызения совести. При этом дело может зайти гораздо дальше плохих оценок, наказаний и исключений. В июле 2020 года, в разгар пандемии, мичиганский судья отправил пятнадцатилетнюю чернокожую девочку в тюрьму за то, что она не выполняла домашние задания на дистанционном обучении.
В университете расовый разрыв между студентами увеличивается десятикратно по чисто финансовым причинам. Образование стоит огромных денег и в большинстве случаев недоступно цветному населению. Берни Сандерс рассказывал, как после предвыборной речи, в которой он упомянул выпускницу медицинского факультета, задолжавшую 300 000 долларов за обучение, к нему обратилась другая молодая выпускница: ее долг составлял целых 400 000 долларов. Этот материальный, финансовый разрыв часто упускают из виду в дебатах о классической филологии, но он не менее — а то и более — важен, чем ментальный и, следовательно, явно социальный разрыв между расами.
К сожалению, классическая филология действительно сыграла определенную роль в формировании этого расового раскола. Разумеется, это ничего не говорит о самих исследованиях древних языков и текстов. Но кое-что говорит о том, как обучение этим дисциплинам устроено в США.
Конечно, этот вопрос требует тщательного изучения, но я не думаю, что ошибусь, если скажу, что в США не было традиции «левых» специалистов по этой дисциплине. Я могу вспомнить только Мозеса Финли, который был скорее историком Античности, чем филологом-классиком. Но я не вижу в США ничего похожего на то, что есть у нас во Франции (достаточно вспомнить таких ученых, как Жан-Пьер Вернан, Пьер Видаль-Наке, Николь Лоро, Марсель Детьен, Клод Калам), в Италии, где работают Лучано Канфора, Маурицио Беттини, Альдо Скьявоне, или в Англии, где Мэри Бирд регулярно дает интервью прессе. В общем, в США мы имеем дело с преподавателями, которые, хотя обычно голосуют за демократов и, конечно, не считают себя расистами, в силу своей политической инертности способствуют сохранению несправедливой социальной системы.
Бывает, что дело заходит еще дальше. Двадцать лет назад, работая в Высшей нормальной школе, я провел год в одном американском университете, где в течение семестра вел курс классической филологии. Там я подружился с одной чернокожей студенткой, Уитни Снид, чья мать была баскетбольным судьей. Уитни заинтересовалась древнегреческим и латынью в колледже, прочтя сцену бури в «Энеиде». Меня возмущали издевки и притеснения, с которыми она столкнулась на этом факультете со стороны некоторых преподавателей, — они явно считали, что чернокожей девушке нечего делать в их классе. Им просто было некомфортно рядом с ней. Уверен, они ни за что не назвали бы себя расистами. Они всего лишь искренне считали, что ей «было бы лучше» где-то еще, где она была бы более «на своем месте». Недавно мы снова начали общаться. Она решила уйти из классической филологии, поскольку чувствовала себя там не на своем месте. Но это не мешает ей критиковать решение Принстонского университета. Я спросил, не согласится ли она рассказать о своем опыте, и ее свидетельство приводится далее.
Решение Принстона — великолепный пример абсурдной логики, поскольку оно приведет к укреплению того самого явления, с которым якобы пытается бороться. В самом деле, что произойдет дальше? По сути, Принстон создаст иерархию, где специалисты в области классической филологии, знающие латынь и древнегреческий — по большей части белые, наследники традиции, — будут отделены от цветных, которые не знают этих языков. Эта иерархия будет как интеллектуальной и научной, поскольку первые благодаря знанию языков будут доминировать над вторыми, так и социальной. Первые смогут планировать преподавательскую и исследовательскую карьеру, вторые — нет. Кому-то из них удастся стать преподавателем или исследователем, но и они неизбежно окажутся на более низких ступенях.
Впрочем, аргументация Принстона абсурдна не только поэтому (глупость часто имеет более серьезные последствия, чем злой умысел). Отменив требование изучать латынь и греческий, он лишь играет на руку тем, кто считает, что классические факультеты не нужны.
Ведь филологов-классиков от историков Античности и литературоведов отличало именно обязательное изучение древних языков. Отныне же университеты смогут, основываясь на решении Принстона, закрыть свои отделения классической филологии и перераспределить их преподавателей по факультетам истории, археологии, языков и других гуманитарных дисциплин. Отделение классической филологии Принстона не пропадет, потому что у него много денег, однако другие могут пострадать от его, отделения, непоследовательности.
Абсурдность этого решения была отмечена рядом ученых, включая Джона МакУортера, в прекрасной статье в The Atlantic. Эта публикация заставила Принстон выпустить довольно жалкое заявление, которое звучит почти как отказ от своих слов.
— Зададим вопрос на почти эпистемологическом (или, по крайней мере, педагогическом) уровне: возможно ли изучать (см. сайт Принстона) «историю, язык, литературу и мысль Древней Греции и Рима» без изучения языков? А если кто-то решит попытаться, как далеко он сможет продвинуться? Что можно узнать о Древней Греции или Риме, не зная их языков?
— Можно узнать о них ровно то, что знали люди в Средние века. Как известно, вопреки стереотипному представлению о Средневековье как о темных веках, люди той эпохи были очарованы Античностью. Но они в большинстве своем не знали древнегреческого, а те, кто знал латынь, не имели специальной историко-филологической подготовки. Я имею в виду, что клирики не умели отличить латынь, которой пользовались сами, от древней латыни (и тем более не различали варианты латыни, бывшие в ходу на протяжении античного периода). К тому же они были неспособны отделить (или не были заинтересованы в этом) свой мир от античного. Единственное различие, которое они видели, заключалось в том, что древним было отказано в спасении. Вспомните великолепный пассаж из четвертой песни «Ада», где выведены языческие авторы, включая Вергилия, которыми Данте восхищается в ужасном одиночестве «высокого замка», куда сам же их и поместил. Борхес в своих «Девяти эссе о Данте» посвятил этому несколько прекрасных страниц.
Таким образом, в результате Античность воспринимается как часть мира, который тебя окружает, а не как нечто иное. На эту присвоенную Античность можно спроецировать все свои фантазии, все свои проблемы… или все свои банальности. Вспомните удручающую скудость рассуждений о том, как античная философия могла бы помочь нам во время самоизоляции («древнегреческие философы предложили бы нам посмотреть на небо» и т. д.). Все это вполне невинно, это даже может дать толчок к развитию воображения и творчеству (например, средневековые люди были невероятно креативны, когда говорили об Античности), поэтому я ничего не имею против — пока это не начинают выдавать за науку.
Невозможно познать мир, не зная его языка. Это известно любому, у кого был роман с иностранцем. Если вы не говорите на одном языке с любимым, вам всегда будет недоставать чего-то, чтобы понять его.
Иными словами, можно, конечно, изучать «историю, литературу и мысль Древней Греции и Рима», не изучая их языков. Но тот, кто предпримет такую попытку, останется ждать у порога, как герой рассказа Кафки «Перед законом». Конечно, я могу начать знакомиться с историей, словом, литературой и т. д. арабской, китайской или японской цивилизации, не пытаясь освоить соответствующий язык. Но я никогда не смогу утверждать, что стал профессионалом в исследовании этих цивилизаций. Я останусь любителем. В этом нет ничего постыдного. Но любитель не профессионал, а в университете должны готовить профессионалов.
— Развивая предыдущий вопрос, спрошу: почему языки занимают настолько важное место в наших отношениях с древнегреческой и древнеримской цивилизацией? Почему у нас сложилось впечатление, что именно в них содержится некая суть, ключ к пониманию античного духа?
Это фундаментальный вопрос. Я не думаю, что важность латыни и древнегреческого языка связана с тем, что в них, как вы говорите, содержится «ключ к пониманию античного духа». Эта важность заключается в том, что они — ключ к пониманию духа всей нашей культуры. Хотим мы того или нет, но слова, понятия, образы, категории, ценности, которыми мы мыслим, унаследованы от Античности. Так что одно из двух. Либо мы не способны осознать этот определяющий фактор — и тогда наше поведение не будет отличаться от поведения машин с искусственным интеллектом, которые выполняют задачи, заданные программным обеспечением. Либо мы способны осознать эту предопределенность, а значит, не можем и дистанцироваться от нее, объективировать ее, абстрагироваться от нее там, где это необходимо, — короче говоря, быть свободными. Долго можно перечислять тех, кто, будучи свободен духом, постоянно черпал из классических источников — и тем лучше понимал специфику современности. Карл Маркс читал Аппиана, Клемансо — Демосфена, де Голль — Цезаря.
Именно в этом смысле я, как и Лучано Канфора, считаю филологию «самой подрывной из всех дисциплин». Она служит фундаментом для подрывной философии, то есть философии, достойной этого звания. Но это уже другая история.
Возвращаясь к вашему вопросу: если наша история — это история свободы, история бурная и все еще незавершенная, то появление «филологического момента» между временем, когда Лоренцо Валла доказал фальсификацию Константинова дара (1440), и временем, когда Спиноза в «Богословско-политическом трактате» (1670) заложил основы критики Библии, — ключевой этап этой истории, давший результат, который невозможно пересмотреть. Какой бы регресс мы ни наблюдали, филологическое сознание уцелеет.
Думаю, именно в этом заключается важность древнегреческого и латыни для наших отношений с греко-римской Античностью. Это чувствуют все люди, даже не очень образованные. Есть бесчисленные свидетельства тех, кто преподавал эти языки в неблагополучных районах. Они говорят, что, правильно построив обучение, им можно сразу заинтересовать и детей, и их родителей. Если же эти предметы удаляются из программы, у учащихся возникает ощущение, будто их сознание калечат.
— И последний вопрос: можно ли расценивать это решение Принстона как более общий признак медленного падения интереса к изучению древнегреческого и латыни?
Очень интересно проследить за тем, как началось постепенное снижение масштабов их изучения, а прежде всего — за риторикой, которая за этим стояла. Это произошло еще в эпоху Просвещения, когда Дидро и Кондорсе пришли к выводу, что нет никакой причины преподавать эти предметы детям из низших классов. В XIX веке Токвиль опасался, что люди будут искать в Античности примеры политического радикализма, что, конечно, выглядело нежелательно в глазах этого видного либерала. Вильгельм II во времена триумфа Altertumswissenschaft провозгласил, что хочет обучать не «молодых греков» и «молодых римлян», а «молодых немцев».
Во всех этих случаях латынь и древнегреческий, вопреки расхожему мнению, не просто бесполезные знания. На самом деле они опасны. Они подрывают установление определенного социального порядка.
Для этого порядка, известного нам по России Екатерины II (Дидро), революционной Франции (Кондорсе), Франции или Германии эпохи модерна (Токвиль и Вильгельм II), всегда характерна определенная прогрессивность — чисто материальная, технологическая, неэгалитарная. Латынь и древнегреческий — самые необычные палки в колесах, с которыми этому порядку пришлось столкнуться. Не только потому, что они помогают нам понять, что определяет наше мышление. Но также и потому, что они создают в жизни тех, кто их изучает, недоступную другим территорию, время, не подчиняющееся никаким материальным, утилитарным императивам. Это время игры, происходящей в той «промежуточной зоне между сном и бодрствованием», которую Дональд Винникотт назвал переходным пространством игры культуры и мысли.
Изучение древнегреческого языка и латыни, когда-то бывшее уделом аристократии, на короткое время стало доступно всем ученикам средней школы, и поэтому-то его постоянно критикуют, сокращают и реорганизуют. Я же считаю, что этот предмет нужно не просто защищать, но и восстанавливать там, где он был упразднен.