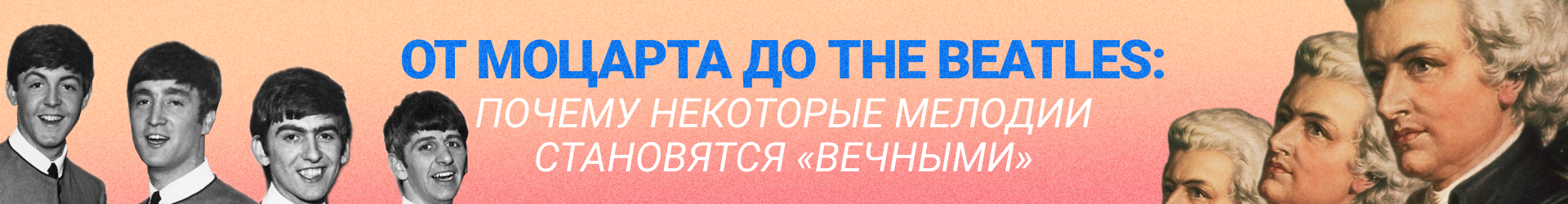«Зеркало прошлых времен»: откуда взялся миф о генетической памяти
В словосочетании «генетическая память», кажется, смешалось всё что только можно: память предков, воспоминания из прошлых жизней, наследование приобретенных признаков, память поколений... Как вышло, что в двух словах уместились десятки понятий из разных областей и запутали всех?
Генетическая память в науке
Представьте себе щенка, который привык к домашнему уюту и заботе, но вдруг оказывается на улице и его забрасывают камнями. Должен же где-то остаться отпечаток этого болезненного опыта? По крайней мере, именно после него щенок вздрагивает, когда человек бросает камень или поднимает что-то с земли.
Так рассуждал в начале ХХ века немецкий зоолог Рихард Земон. Он предположил, что, когда некий раздражитель действует на организм, в нем остается «след памяти» — энграмма. Совокупность энграмм — это «мнема» (в честь богини памяти Мнемозины). Эта концепция стала называться мнемизмом. Земон полагал, что с помощью энграмм информация о воздействии среды на живое существо передается из поколения в поколение.
В 1914 году Фрейд писал: «Все наши предварительные психологические положения придется когда-нибудь перенести на почву их органической основы». Генетика находилась тогда в зачаточном состоянии. Спустя век, в 2012 году, группа ученых под руководством нобелевского лауреата Сусуму Тонегава провела опыт на мышах.
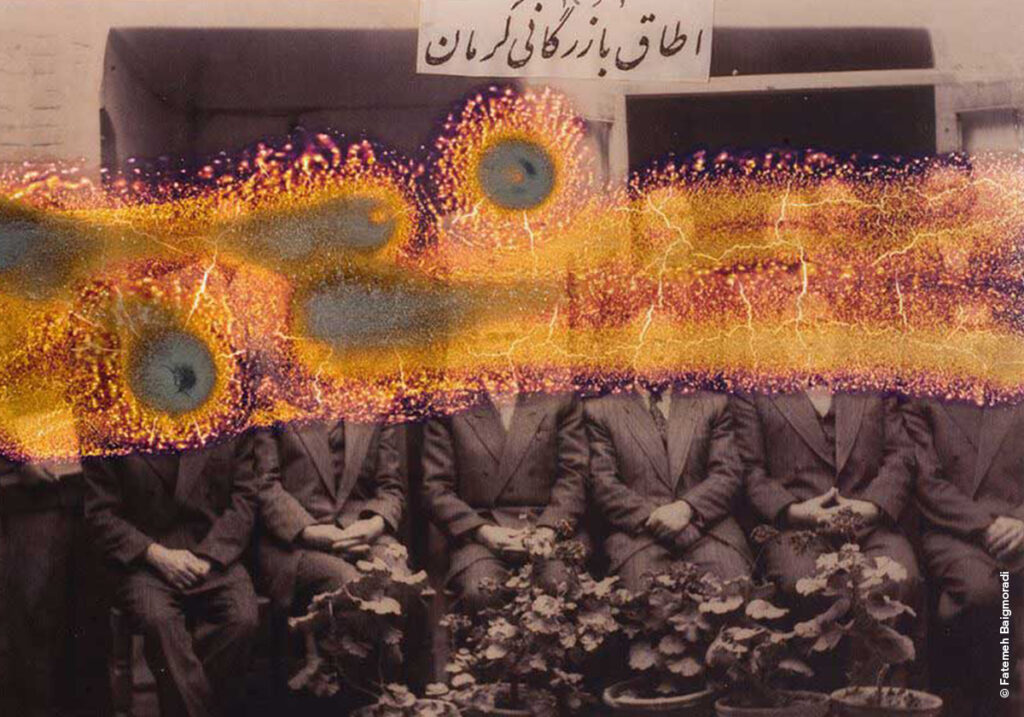
Грызунов помещали в незнакомую им клетку и били током, фиксируя, какие группы нейронов реагировали на страх. После этого животных пересаживали в другую клетку, подсвечивали с помощью оптоволокна те же нейроны — и мыши начинали бояться! Так ученые обнаружили «хранилище воспоминаний» — систему нейронов и генов, запоминающую конкретный травматичный эпизод.
Найденные паттерны страха назвали энграммами. Сегодня ученые умеют подсвечивать энграммные клетки гиппокампа — то, что мечтал увидеть Земон. Так его понятие получило второе рождение через сто лет и стало всё чаще мелькать в научной литературе. Например, в статье, опубликованной в январе 2021 года, нейрохирурги из Стэнфордского университета суммировали всё, что известно про энграммы гиппокампа на сегодняшний день.
Энграмма — это множество нейронов, задействованное в опыте. Опыт можно вспомнить, активируя эти нейроны. Нейробиологам еще предстоит понять, как сложная информация о пережитом сжимается в энграмму.
Генетики выяснили, что у мышей память о страхе может передаваться следующим поколениям, причем не только детям, но и внукам.
Исследователи из медцентра Университета Эмори провели эксперимент с тремя группами мышей. На самцов из основной группы распыляли ацетофенон (жидкость с запахом черемухи) и одновременно били их током. Мыши стали ассоциировать запах черемухи с болью и разбегались, не дожидаясь электрошока. Их детеныши тоже реагировали на запах: вздрагивали, подпрыгивали, застывали на месте или бросались бежать, хотя током их никто не бил. Повышенная чувствительность к запаху сохранилась и у третьего поколения. При этом в двух контрольных группах, где мышей либо не пугали совсем, либо использовали другое вещество, реакции на ацетофенон не было.
Что означает «повышенная чувствительность» к запаху на молекулярном уровне? Когда животное вдыхало вещество с запахом, активировались группы нейронов в эпителии носа и в обонятельной доле мозга. У потомков «напуганных» мышей таких возбужденных нейронов становилось больше.
Может быть, родители просто научили мышат бояться запаха черемухи? Исследователи подсадили эмбрионы детенышей «напуганных» животных суррогатным матерям. Родившиеся мыши никогда не видели своих биологических отцов — но точно так же реагировали на запах. Это доказывает, что реакция передается на биологическом уровне, а не на поведенческом.
Как это связано с генами? При воздействии на мышей их последовательность нуклеотидов не менялась, мутаций не происходило — усиливалась лишь активность генов (это направление называется эпигенетикой). Ученые проанализировали участок ДНК мышей, где находится ген рецептора к запаху ацетофенона, и выяснили, что и ген, и рецептор работали мощнее. Профессор Университетского колледжа Лондона Маркус Пембрей предположил, что эта научная работа поможет нам выяснить, как «память предков» о травмирующем опыте передается другим поколениям у людей — и какую роль этот опыт играет в развитии диабета, ожирения и психических заболеваний.
Читайте также
Греховная эпигенетика: каким образом страдания родителей отражаются на их детях
Похожих исследований в эпигенетике сотни. Однако механизмы изменений в работе генов еще до конца не ясны, экспериментальных данных недостаточно. Поэтому переносить их на человека и делать далеко идущие выводы о «генетической памяти» как о передаче потомству приобретенного опыта пока рано.
…и в антинаучных теориях
До того как в 1953 году была открыта структура ДНК и появилась основа для изучения работы клеток, человечество успело наломать дров. В XIX–XX веках возникло несколько теорий, связанных с генами, о которых тогда мало что понимали:
- телегония — идея о том, что дети наследуют признаки от предыдущих партнеров матери;
- евгеника — идея, что популяцию можно «улучшить», так как ум и таланты наследуются. Другая ее сторона — в США, а позже и в Германии принудительно стерилизовали преступников, слабоумных и больных;
- антисемитизм — идея о том, что внутри одной расы наследуются черты характера и что евреи генетически отличаются от других наций в худшую сторону.
Нейробиолог Эрик Кандель в автобиографической книге «В поисках памяти» пишет:
«Это представление восходит к доктрине богоубийства, которой долгое время учила Римско-католическая церковь. Как доказывал Фредерик Швейцер, католик, изучавший историю евреев, эта доктрина и положила начало представлениям о том, что евреи повинны в смерти Христа (до недавнего времени католическая церковь не отрекалась от этих представлений). Согласно Швейцеру, эта доктрина предполагала, что евреи, виновные в богоубийстве, как раса обладают врожденным недостатком человечности и поэтому должны генетически отличаться от других людей, быть недолюдьми».
Кандель вспоминает события 1938 года в Вене, когда нацисты врывались в дома еврейских семей, громили квартиры, разбивали окна синагог, заставляли евреев оттирать улицы зубными щетками, а еврейских детей, включая девятилетнего Канделя, выгоняли из школ. Эти эпизоды из детства пробудили в нем интерес к психике и привели Канделя в науку — в 2000 году он получил Нобелевскую премию за исследования в области клеточных и молекулярных механизмов памяти.
Одним из лейтмотивов для переживших холокост была фраза «Никогда не забывать» — Кандель видел свой научный долг в изучении биологических основ этого девиза. Интересно, что потомки нацистов продолжали верить в «силу генов» и наследственности психики.
Внучатые племянники Гитлера и Геринга, ощущая вину за произошедшее и видя свое внешнее сходство с предками, договорились никогда не иметь детей или даже стерилизоваться, чтобы «не плодить преступников».
Так же поступил и старший сын личного адвоката Гитлера Норман Франк. Некоторые потомки комендантов концлагерей пытались покончить с собой. Об этом рассказывается в фильмах «Дети Гитлера», «Последний из Гитлеров» и российском проекте «Дети Третьего рейха». Желтая пресса подхватила повестку и в поисках несуществующего «гена Гитлера» принялась разыскивать потомков фюрера.

В эзотерике
В погоне за сенсациями журналисты то и дело сочиняют истории о «генной памяти» и сюжеты в духе «паранормальных явлений». Вспомним фейк про то, что «человек использует только 10% своего мозга», — а в остальных 90% тогда что? Память предков и сверхъестественные способности, конечно же! Как правило, мифами и домыслами обрастает то, что на обывательском уровне трудно или невозможно объяснить.
Взять, к примеру, американского психолога, обладателя множества регалий и автора бестселлеров Пола Пирсола. В книге «Код сердца» (1998) он представил якобы научные доказательства клеточной памяти: будто бы сердце «разговаривает с мозгом», «запоминает» и общается с другими сердцами. Некоторые пациенты после пересадки сердца сообщали, что у них появлялись новые воспоминания и внезапно менялись предпочтения: они становились похожими на своих доноров по темпераменту, начинали любить ту же еду, музыку и места в городе, которые нравились их донорам.
Еще пример — статья «Комсомолки» 2003 года о продавщице Наталье Бекетовой, которая после обморока неожиданно «вспомнила» 120 языков. Заодно в ней проснулась генная память о стольких же прожитых жизнях — якобы в этом «повинны гены, находившиеся в рецессивном состоянии». Канадско-американский психиатр Ян Стивенсон коллекционировал подобные истории о детях, которые «вспоминали» и рассказывали о своих прошлых жизнях. Стивенсон использовал их для подтверждения теории реинкарнаций.
Кроме того, с 1960-х годов парапсихологи использовали ЛСД, холотропное дыхание и техники регрессивного гипноза, чтобы пациент вспомнил прошлые жизни или собственное зачатие. В Израиле эту технику официально запретили в 2009 году после жалоб пациентов.
Разумеется, такие практики современная наука не будет воспринимать всерьез. Но что если посмотреть на это с точки зрения человеческой тяги к трансцендентному или художественного вымысла?
В философии, литературе, танце
Откуда вообще взялась эта идея? Может ли человек «вспомнить» то, чего никогда не переживал сам?
Платон считал, что человек познает мир разумной частью своей души. А поскольку бессмертная душа до того, как вселилась в тело, пребывала в мире «идей» и созерцала истину, она знает обо всем на свете — и в земной, и в потусторонней жизни. Свое знаменитое учение о припоминании Платон впервые формулирует в диалоге «Менон». В нем Сократ беседует с мальчиком, рабом Менона, задавая наводящие вопросы, и тот самостоятельно приходит к теореме Пифагора. Стало быть, «истинные мнения» не приобретаются, а уже заложены в человеке с рождения, просто забыты. И научить чему-то означает всего лишь заставить душу это «вспомнить» — «разбудить» вопросами, чувствами и неустанными поисками.
«Получается, что в человеке живут верные мнения о том, чего он не знает? А теперь эти мнения зашевелились в нем, словно сны», — говорит Сократ.
Истинные мнения не постоянны, они «убегают из человеческой души и потому не ценны, пока кто-нибудь не свяжет их размышлением о причине… а это и есть припоминание». Так мнения становятся знаниями. В диалоге «Федр» человек понимает «идею» как воспоминание о том, что «некогда видела душа, когда сопутствовала богу».
На протяжении двух последующих тысячелетий теорию врожденных идей и бессмертной души развивали и переосмысляли другие философы. Филолог и историк СПбГУ Борис Аверин так объясняет платоновскую теорию о том, что «всякое знание есть воспоминание»:
«Здесь имеется в виду знание, которое определяет наше бытие, его смысл, наше восприятие мира. Перед тем как воплотиться, душа пребывала там, где царят гармония, красота и блаженство. А когда она воплотилась, забыла это состояние. Мы забыли состояние блаженства, но оно нам все-таки ведомо. Когда я воспринимаю красоту природы, когда я люблю, когда я занимаюсь творчеством, я вдруг испытываю такое состояние, которое приближает меня к воспоминанию о том, что я знал извечно».
Эта идея отразилась и в литературе. В одном из интервью Борис Аверин рассказывал о романе Ивана Бунина «Жизнь Арсеньева»: «Бунин пишет о младенческих воспоминаниях, воспоминаниях души — всё это было для меня закрыто полностью.
По Бунину, младенчество печально, потому что душа еще не до конца забыла, как до своего рождения испытывала блаженство.
Бунин невероятно остро воспринимает жизнь, так, как не могут воспринимать большинство людей, которым бытие кажется монотонным, окрашенным в невыразительные серо-белые тона. А он воспринимал материальный мир с необычайной силой. У него бывали такие странные состояния сознания, когда он будто бы вспоминал не только свое настоящее, но еще и далекое прошлое за чертой собственного рождения. И когда он спросил о таких переживаниях Льва Толстого, тот ответил: я даже помню, как когда-то был козленком».
Аверин приводит примеры известных личностей, которые как будто не получали знания, а вспоминали их:
«Владимир Казимирович Шилейко, второй муж Анны Ахматовой, занимался Месопотамией, шумерами, древними, давно забытыми культурами. За три года он начинает воспринимать культуру XV века до н. э. так глубоко, что его труды изучают специалисты, которые занимаются этим всю жизнь. И таких людей довольно много. Владимир Соловьев, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, частично Блок. Они что-то такое вспоминают, на что многие люди тратят годы».
Проникнуть в область прапамяти с точки зрения физики и физиологии мы, конечно, не можем, говорит Аверин. «Но это если брать человека телесного, а если брать его сознание? Его можно определить как tabula rasa: я родился и ничего не знаю, я как чистая доска, на которой пишут родители, общество, книжки и знания, которые я получаю. А может быть, знание наследуется, и мой мозг несет в себе следы прежних восприятий, прежних существований. И вот это надо вспомнить. Не про это ли греки говорят: „Познай самого себя“?»
Философ Мирча Элиаде несколько глав книги «Аспекты мифа» посвящает мифам памяти и забвения, в том числе в античной Греции. Греки различали два вида памяти:
- «первичная» — знания о начале времен,
- «историческая» — предшествующие существования, события из жизни личности и общей истории.
Считалось, что забвению не подвластны поэты, вдохновленные музами, те, кто благодаря «пророческому дару, направленному в прошлое» могут познать происхождение мира, и те, кто верит в перевоплощение душ и способен вспомнить свои предыдущие жизни (как Пифагор и Эмпедокл).
Советский палеонтолог и фантаст Иван Ефремов в 1942 году написал очень смелый по тем временам рассказ «Эллинский секрет». Повествование ведется от лица профессора по имени Израиль Абрамович Файнциммер, который посвятил жизнь психофизиологии мозга, а во время войны работает в госпиталях. К профессору приходит солдат с необычными жалобами. После контузии его мучают странные видения, и он уверен, что видит во сне Элладу.
«Леонтьев жаловался на боли в верхней части затылка, а именно там, по моим представлениям, в задних областях больших полушарий, гнездятся наиболее древние связи — ячейки памяти. Очевидно, под влиянием огромного душевного напряжения из недр мозга начали проступать древние отпечатки, скрытые под всем богатством памяти его личной жизни».
Солдат оказывается скульптором, который мечтает вылепить статую возлюбленной, но мучается с выбором материала. В своих видениях он заходит в мастерскую далеких предков, которые жили на Кипре, и обнаруживает на столе древний рецепт — как сделать слоновую кость мягкой, словно воск. Профессор объясняет это тем, что рецепт был чрезвычайно важен, поэтому в памяти предка образовались прочные связи, закрепившиеся для передачи в механизме наследственности. Воля и напряжение всех сил помогли солдату вспомнить то, что было так ему необходимо.

«Как и принято современной наукой, память не наследственна, — говорит Файнциммер. — Но я думаю, что опыт бесчисленных поколений дал нам бессознательное понимание совершенства, воспринимаемого в виде красоты, и это понятие отпечатывается уже в памяти — той бессознательной памяти, которая передается по наследству из поколения в поколение».
Однако профессор допускает, что в редких случаях комбинации нервных клеток могут передавать и «кусочки сознательной памяти» — о том, чего сам человек никогда не переживал.
Позже Ефремов развивал те же идеи в романе «Лезвие бритвы», название которого означает «неощутимую грань между сознанием и подсознанием». По сюжету, врач предлагает пациенту «стимулировать памятные узлы наследственной информации» с помощью ЛСД, чтобы пробудить воспоминания о первобытных предках и перенестись из 1961-го на сотни тысячелетий назад. Но через неделю «опасение за психическое здоровье человека не позволяло продолжать опыты».
Поскольку сам Ефремов был ученым, он старался дать всему научное объяснение — в его произведениях стоит отделять науку от художественного вымысла. Под «наследственной памятью» (информацией, механизмами) он понимает «инстинктивную память клеток и организма в целом, тот автопилот, который автоматически ведет нас через все проявления жизни», — и это в общих чертах соответствует реальности. А вот то, что в редких случаях память «может прорваться в сознание с возможностью раскодирования ее в мыслеобразах», — вымысел.
Сюжетов, похожих на ефремовский, довольно много. Например, считается, что «Самая удивительная повесть в мире» Киплинга, написанная в 1891-м, вдохновила Джека Лондона на рассказ «Когда мир был юным» и на повесть «До Адама» (1906–1907). Герою последней с детства снились сцены из жизни первобытных предков, когда человек «лишь становился человеком». Профессор колледжа объяснил ему, что распространенный сон, в котором человек падает с высоты, — это проявление «расовой, родовой памяти»: наши предки падали с деревьев и испытывали страх гибели, что порождало молекулярные изменения в клетках мозга. Эти изменения «передавались мозговым клеткам потомков, становясь, таким образом, родовой памятью». Здесь речь идет скорее об инстинктах и о том, что позднее назовут «мозгом рептилии», но в то время Лондон использовал термин «гермоплазма», чтобы обозначить «посредника, который передавал бы эту память от поколения к поколению».
А вот герой романа Лондона «Межзвездный скиталец» путешествует именно по своим прошлым жизням:
«Мы, новорожденные младенцы без опыта, рождались со страхом, с воспоминанием страха, а воспоминание есть опыт… В этот период во мне бродило, шевелилось всё, чем я был в десятках тысяч прежних существований, это всё мутило мое расплавленное „я“, стремившееся воплотиться во мне и стать мною… Иные голоса прорывались сквозь мой голос — голоса людей прошлых веков, голоса туманных полчищ прародителей».
В четвертой части ефремовского романа «Лезвие бритвы» сказано:
«Галлюцинации… ведут нас к головокружительной возможности — заглянуть через самого человека в бездну миллионов прошедших веков его истории, пробуждая в его сознании закодированный памятный фонд. Первая по времени научная постановка проблемы генной памяти в начале нашего века принадлежит писателю Андрею Белому. Он формулировал возможность „палеонтологической психологии“ и говорил об отношении к слоям подсознания, вписанным в нашу психологическую структуру, как к ископаемым пластам в геологии… Наша задача не только расщепить сознание и подсознание, но вскрыть подсознательную память и, отразив ее в сознании, получить расшифровку».
Как отмечает филолог Наталия Мокина, в творчестве Андрея Белого и других поэтов Серебряного века мотивы прапамяти, вневременной сущности и «нездешнего» начала в человеке обретают особое значение. Если воспользоваться словами Вячеслава Иванова, многие русские поэты «живут в мифе», осознавая древние сюжеты как «древние воспоминания», как «прапамять». В стихотворении «Дом поэта» Максимилиана Волошина есть строки: «Весь трепет жизни всех веков и рас живет в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас». Эту мысль он подробно раскрывал еще в ранней статье «Откровения детских игр».
Филолог Сергей Бочаров всю русскую литературу представляет как «разветвленную память», единую кровеносную систему, поэтому книга его очерков называется «Генетическая память литературы». Первая статья в ней как раз посвящена «литературным припоминаниям», «памяти жанра» (термин Бахтина) и удивительным совпадениям в творчестве авторов из разных эпох.
Мотив мощной связи с предками и потомками был и остается одним из ключевых в поэзии и мемуарной литературе. Как писал в стихотворении «Осень» поэт Анатолий Кобенков:
Когда мы сортируем наши травы
и заточаем в кадки огурцы,
как птицы из оливковой дубравы
нас выкликают наши праотцы.
Или в знаменитом стихотворении «Жизнь, жизнь» — Арсений Тарковский: «Мне моего бессмертия довольно, чтоб кровь моя из века в век текла».
Идея памяти предков реализуется даже в балете! Основоположница современного танца Марта Грэм свою автобиографию назвала «Память крови». Она писала:
«Во всех людях, особенно в танцовщиках, со всей мощью их жизней и тел, говорит память крови. Каждый из нас унаследовал кровь отца и матери, а через них — кровь их родителей и родителей их родителей, и так в глубину веков. Мы несем в себе тысячи лет этой крови и ее памяти. Как еще можно объяснить инстинктивные жесты и мысли, приходящие к нам, когда мы не готовы к ним и не ожидаем их?
Может быть, они приходят из глубин памяти о том времени, когда мир был еще хаосом, когда, как говорится в Библии, мир еще был ничем. А потом, как будто через приоткрытую дверь, появился свет».
Грэм приводит цитату Уильяма Гойена из романа «Дом дыхания»:
«Мы носители жизней и легенд — мы познали невидимые фрески на внутренних стенках нашего черепа».
Зачастую, говорит Грэм, танец создается благодаря стремлению найти эти скрытые фрески. Когда Марта ставила очередной танец, она не пыталась объяснить его с помощью слов:
«Я всегда слышу за спиной шаги моих предков, они подталкивают меня, когда я создаю новый танец, и их жесты текут сквозь меня. Неважно, хорошие они или плохие, они — часть моего рода. Ты достигаешь точки, в которой твое тело становится чем-то иным, оно несет в себе целый мир культур прошлого, идею, которую очень сложно выразить словами».
Грэм признается, что всегда была любопытна и интересовалась жизнями других людей и существ: «Об этом когда-то сказал Эмпедокл: „Был уже некогда отроком я, был и девой когда-то, был и кустом, был и птицей, и рыбой морской бессловесной“. Другими словами, капли памяти этих прошлых личностей текут сквозь меня — не реинкарнации, не превращения, ничего такого. Я говорю о божественности памяти, фрагментах памяти, о необычайно ценных вещах, которые мы забываем и которые наши тело и ум решают вспомнить… Как у Эмили Дикинсон: „Инстинкт поднимает ключ, что бросила память…“»
Марта Грэм не считала себя гениальной танцовщицей, а предпочитала представлять себя этаким «добытчиком» — золотистым ретривером, «добывающим вещи из прошлого или из нашей общей памяти крови».
В социологии, истории, психологии
Наташа Ростова во втором томе «Войны и мира» шептала Соне и Николаю: «Знаешь, я думаю, что когда вспоминаешь, вспоминаешь, всё вспоминаешь, до того довспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете…»
В XIX–XX веках тема наследуемой памяти чрезвычайно интересовала философов, психологов, историков и писателей. Многие размышляли о том, что параллельно биологической эволюции идет эволюция культурная, а кроме индивидуального уровня памяти существует и коллективный. Одним из первых это сформулировал Карл Густав Юнг в теории о «коллективном бессознательном» и архетипах.
Каждый человек и его сообщество наследует от предков огромный объем представлений о прошлом, традиций, образов, материальной культуры и способов адаптации — так обеспечивается преемственность развития обществ на протяжении веков. Это явление немецкий египтолог и историк религии Ян Ассман назвал культурной памятью. Примечательно, что он развивает теорию «коллективной памяти» социолога Мориса Хальбвакса и теорию «социальной памяти» (кочевания одних и тех же образов в культуре) искусствоведа Аби Варбурга, который, в свою очередь, опирался на концепцию мнемизма Рихарда Земона.
Кстати, слово «мем» впервые использовал Ричард Докинз в 1976 году в книге «Эгоистичный ген». Мем — это единица культурной информации, которая передается негенетическим путем: «Мем, скажем, веры в загробную жизнь реализуется физически миллионы раз как некая структура в нервной системе отдельных людей по всему земному шару».
Есть и еще один вид памяти, которая передается из поколения в поколение. Американский социолог, профессор Колумбийского университета Марианна Хирш в 1992 году предложила термин «постпамять» — это память о том, чего люди не переживали сами, но «помнят» из рассказов родственников, мемуаров, фотографий и кино.
Марианну Хирш цитирует поэтесса Мария Степанова в романсе «Памяти памяти», посвященном ее родословной: «Расти под грузом всепоглощающей наследственной памяти, под управлением нарративов, существовавших до того, как появился на свет ты сам или твое сознание, — значит рисковать тем, что твои собственные истории уйдут в сторону или даже сотрутся, уступая место предшественникам». В XX веке, пишет Степанова, жителям России пришлось пройти через целую «травматическую анфиладу» от беды к беде, от революции к войне, от голода к массовым убийствам.

Однако на человека влияют не только нарративы, не только устные, письменные и визуальные истории о том, что ему откуда-то известно. Ему может передаваться «память» о том, о чем ему никогда не рассказывали, — на эмоциональном уровне. Часто это связано с семейной тайной, замалчиванием беды.
«Например, человек вернулся из плена, — рассказывает Евгения Германовна Трошихина, доцент кафедры психологии развития и дифференциальной психологии СПбГУ. — Каким взглядом он будет смотреть на своего ребенка? В его глазах уже нет безопасности и свободы — он будет всё время чего-то бояться. Ребенок почувствует это, вырастет с желанием вернуть отцу радостное, беззаботное состояние — он может унести это как ощущение, что не справился с задачей, не помог отцу. Если бы ему рассказали, что отец был в плену, его избивали и унижали, это придало бы смысл происходящему, помогло бы всё объяснить.
…Кроме того, есть такой феномен „замещающие дети“. Допустим, у матери погиб маленький ребенок, и она не прожила потерю, не оплакала, не отгоревала. Она решает как бы родить его снова, но следующий ребенок оказывается не похожим на ушедшего. И в воздухе витает: мы ждали не тебя, а другого. Когда ребенок умирает маленьким, он остается идеализированным, ведь он не может сделать ничего плохого и всегда будет лучше. Поэтому следующему приходится как бы оправдываться, доказывать, что „я здесь по праву“. В дальнейшем у таких детей могут появиться серьезные психологические проблемы, основные из которых — постоянный поиск идентичности, внутреннее чувство пустоты, частые депрессии, повышенное чувство вины».
Получается, что ребенку отравляют жизнь воспоминания, которые не являются его собственными, — и вполне возможно, это повлияет не только на него самого, но и на его детей. В психологии негенетическая передача травмы через поколения так и называется — трансгенерационная травма.
Все дети растут на примерах своих родителей, впитывают всё, что видят, копируют человеческие отношения и модели поведения. Это то, что Эрик Берн назвал семейным сценарием, а журналисты называют родовым сценарием, — повторение семейных ошибок, которое людям часто хочется списать на гены.
«По статистике, чаще совершают суицид люди, у которых кто-то из близких покончил с собой, — говорит Евгения Трошихина. — Когда у человека сложная ситуация, он принимает это как возможный выход: если тот позволил себе, то и я могу позволить. Конечно, это влияет на детей, потому что суицид невозможно так же прогоревать, как любую другую потерю, о нем молчат.
Или почему девушка, у которой отец был алкоголик, часто находит алкоголика себе в мужья? Потому что она знает, как с ним жить.
Или известно, что люди из детских домов часто передают своих детей в детский дом: мол, нас же воспитали хорошими людьми, вот там и воспитают. Им сложно проявлять чувства к детям на людях: целовать ребенка на виду у других кажется неприличным. Поэтому их надо пошагово учить, как быть матерями и отцами».
Родственники и другие члены общества показывают детям, как быть в этом обществе человеком и как адаптироваться к условиям жизни. Так передаются традиции.
«Антрополог Маргарет Мид изучала уход за детьми у разных народов, — говорит Евгения Германовна. — Например, в местности, где нужно быть храбрым воином, иначе тебя съедят тигры, детей клали в корзинки из жестких прутьев, где им было очень больно лежать. Зато ребенок становился бравым воином. А когда Мид в обществе земледельцев сказала, что американцы кладут ребенка в отдельную кроватку, на нее посмотрели, как на бездушную мать: как же так, спать надо вместе с ребенком, иначе он будет бояться. Такое воспитание поддерживает уклад жизни: землю они возделывают вместе».
Выражение «память поколений», с одной стороны, отдает какой-то мистикой, эзотерикой, имеет привкус очередной жареной истории от желтой прессы. С другой, оно вбирает в себя целые пласты философских и культурных смыслов. А с третьей — отражает преемственность науки и дает надежду на новые открытия.
Читайте также
Да генетика у меня плохая! Как нас меняет уверенность в своих генетических склонностях
Где хранится наша память, как можно картографировать мозг и почему внимание — это фикция