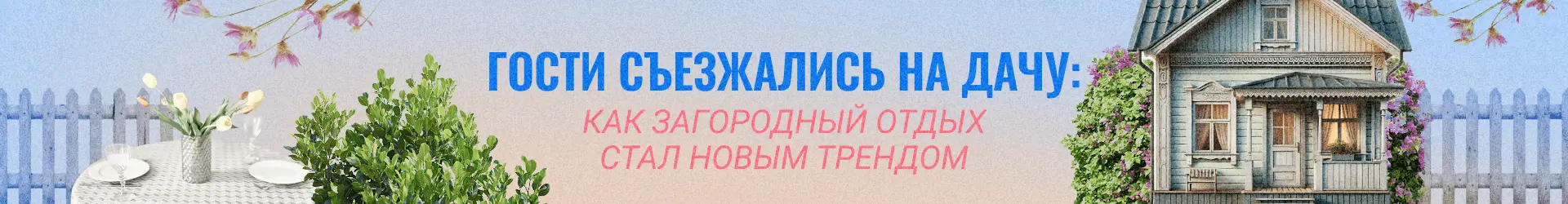Смеяться, блевать и мастурбировать. Как социологи изменили исследования фильмов ужасов, а философы научились использовать хоррор в своих целях
Что заставляет нас бояться и почему фильмы ужасов ужасны? Десятилетиями считалось, что все «ужастики» устроены одинаково, и надо только понять, как. Но есть и другой взгляд на исследование жанра. Одни фильмы заставляют вспомнить о травматичных событиях истории, другие создают сообщество любителей треша, а третьи воспроизводят конфликт западной и национальной моделей мировосприятия.
В ХХ веке исследователи ужасов разделились на два лагеря: одни анализировали сюжеты в психоаналитическом и феминистском ключе, а другие интересовались исключительно формой. Между ними шла жестокая конкуренция, за которой стояла не только борьба идей, но и распределение грантов.
Марксистски ориентированные критики писали, что монстр в ужасах всегда символизирует тех, кого капиталистическое общество угнетает, — пролетариев, гомосексуалов, женщин, детей, черных и пр. Феминистки добавляли, что в хорроре важное значение приобретает то, с кем на экране идентифицируется зритель.
Их противники, называвшие себя когнитивистами, возражали, что идентификация не происходит вообще, но зрителями всегда движет любопытство. Но обе группы исследователей объединяло желание дать единственное объяснение хоррору, которое смогло бы охватить все фильмы и всех зрителей.
К концу 90-х к дискуссии полноценно подключились сторонники социологических подходов: они бросили вызов претензиям на всеобъемлющее объяснение жанра.
Почему хоррор?
Социолог Эндрю Тюдор писал о кино, начиная с ранних этапов своей карьеры. Еще в 1970-х, когда британский журнал Screen задавал тон в поисках единой теории, которая позволила бы киноведению состояться как самостоятельной дисциплине, Тюдор писал, что такой всеобъемлющий подход невозможен.
В 1972 году, когда горячей темой был реализм в кино и его статус, в Screen вышла статья «Многочисленные мифологии реализма»: в ней Тюдор показал, что на протяжении истории под общим ярлыком собиралось множество различных представлений о реализме: как о бесстрастном фотографическом отображении мира, как об изображении «настоящей» жизни людей (то есть как раз не такой, какой она кажется поверхностному наблюдателю), как об изображении истинной сути вещей путем лишения их видимого контекста и т. д. Тюдор заключает, что при таком разнообразии определять реализм окончательно — дело бесперспективное.
Эта же схема мысли, противостоящая абстрактному теоретизированию, станет основой для критики, которую социолог направит против психоаналитиков и философов, воюющих за определение хоррора.
В 1989 году Тюдор опубликовал книгу «Монстры и сумасшедшие ученые: Культурная история хорроров», в которой дал простую схему для анализа эволюции жанра. Он предложил три оппозиции, с помощью которых можно охарактеризовать любой вышедший в прокат фильм ужасов: сверхъестественный/секулярный, внешний/внутренний и автономный/зависимый. Каждая пара определяла тип угрозы: требует ли она мистического допущения, исходит ли она извне или изнутри человека, насколько она независима от человечества.
Те, кто хоть что-то знает об исследованиях ужасов, с легкостью угадают сходство с теорией канадского кинокритика Робина Вуда, который рассматривал жанр через характеристики монстра и формулировал свои выводы как одновременно эстетические и политические. Например, оппозиция автономной и зависимой угрозы соответствовала реакционному и прогрессивному сюжетам. Тюдор, как и Вуд, видел в хоррорах порождения конкретного общества в конкретный исторический момент, только Тюдора не интересовали художественные качества отдельного фильма: признанная высоким искусством «Ночь живых мертвецов» (1968) в его анализе не была важнее любого «проходного ужастика» — важно было лишь то, как в их сценариях описана угроза.
Исследование «Монстры и сумасшедшие ученые» демонстрировало тенденцию хоррора на протяжении XX века развиваться от мистического образа внешнего врага к секулярной угрозе, исходящей изнутри людей, — к ужасу повседневности.
Фрагмент из фильма «Последний дом слева» (США, 1972)
Еще большую популярность Тюдору принес вклад в спор когнитивистов с психоаналитиками о том, как нужно правильно описывать фильмы ужасов. В 1997 году в журнале Cultural Studies он опубликовал статью под названием «Почему хоррор? Специфические удовольствия от популярного жанра». Вызов содержался уже в заголовке: он полностью повторял название последней главы из полемической «Философии ужаса» Ноэля Кэрролла.
Тюдор бросился дробить всеобъемлющую теорию когнитивизма, которая предполагала смесь любопытства с отвращением в качестве основы удовольствия любого поклонника жанра. Он показал, что постановка вопроса «Почему хоррор?» слишком абстрактна и может быть истолкована сразу двумя способами:
Как вопрос о зрителях (какие люди любят ужасы? или, точнее, в чем особенность тех людей, которые любят ужасы?) или как вопрос о фильмах (какие ужасы любят люди?).
Тюдор заявил, что исследовать «жанр вообще» — неверно и неосуществимо, но возможен конструктивистский социологический подход с более тонкой постановкой вопроса: почему этим людям нравится этот хоррор в этом месте в это определенное время?
За примерами того, насколько по-разному люди смотрят одно и то же кино, ходить далеко не нужно. В конце прошлого года Netflix выпустил свой постапокалиптический хоррор «Птичий короб», который стал самым популярным фильмом на сервисе. В нем героиня в исполнении Сандры Буллок спасает двоих детей от захвативших мир монстров, на которых ни в коем случае нельзя смотреть.
Если сравнить зрительские рейтинги «Птичьего короба» на «КиноПоиске» и IMDB, то на первый взгляд покажется, что русскоязычные и англоязычные зрители оценивают фильм почти одинаково: средняя оценка в обоих случаях равна 6,7. Бросается в глаза, что число проголосовавших на IMDB значительно выше (159 тысяч против 16 тысяч на «КиноПоиске»), но в остальном всё похоже на единодушие. Тем не менее, если посмотреть на негативные рецензии, то на IMDB они почти целиком строятся на критике сценария, а на русскоязычном ресурсе в дополнение к этому в глаза бросаются фразы вроде следующей: «по последним тенденциям Нетфликса, никого не удивляет, что в фильме есть: цветные (черные, азиаты и латиносы), инвалиды, гомосексуалисты…» или «опять, эта чертова пропаганда гомосексуализма и межрасовых браков, которые впихиваю в глотку аудитории, меня выбивала из колеи» (синтаксис оригинала в обоих случаях сохранен).
Ставшая нормой для большинства англоязычных зрителей репрезентация различных социальных групп может оказываться отдельным препятствием для некоторых русскоязычных киноманов, достаточно активных, чтоб написать на фильм рецензию. Это лишь небольшой пример того, как специфика аудиторий проявляется в оценке ими фильма.
Жанр всегда связан с повседневным опытом зрителей. Каждый из нас описывает свои источники удовольствия от ужаса по-разному: «хорошая история», «героям можно сопереживать», «жизненность», «необычный сеттинг» и т. д. Позже Стивен Троуэр в книге «Кошмар США» (2007) опишет опыт любителей эксплуатационного кино 1970-х (типа фильмов «Кровососущие уроды» Джоэля Рида, «Хардгор» Майкла Хьюго или «Сила воды» Шона Костильо) через выразительный спектр реакций: смеяться, блевать и мастурбировать. Тюдор приводил более сдержанный список: отвернуться, подпрыгнуть, задержать дыхание, нервно рассмеяться.
В качестве ответа на вопрос «Почему [именно] хоррор?» для зрителя важно: пощекотать нервы, получить полезное предостережение (привет российскому Министерству культуры и борцам за нравственность), повеселиться за компанию, поддержать свою идентичность в рамках группы, определить себя как маргинала.
Маргинальная самоидентификация фанатов ужасов вовсю эксплуатируется поклонниками социологии Пьера Бурдье. Эти исследователи показали, как хоррор-гики способны объединяться и бросать вызов устоявшимся культурным иерархиям и понятию «хорошего вкуса».
Фанаты жанровых фильмов разработали собственную систему ценностей с уникальным снобизмом: они стали презирать поклонников арт-кинематографа и противопоставлять им свою любовь к микробюджетным полулюбительским проектам.
Трейлер фильма «Кровососущие уроды» (США, 1976)
Хоррор как поле битвы за вкус
В 1995 году, пока киноведы бились за единое определение хоррора, Джеффри Сконс опубликовал в Screen статью «„Трешуя“ академию: вкус, эксцесс и возникновение политики кинематографического стиля». Будучи специалистом по истории медиа и теориям коммуникации, Сконс решил воспользоваться критикой понятия «вкус», разработанного Бурдье.
В работе «Различение: Социальная критика суждения» (1979) вкус описан как зачастую неосознанная попытка провести различие между собой и тем, кто находится на соседней позиции в социальном пространстве. Общество выстроено иерархически, так что и вкусы различных социальных групп складываются в иерархию, которая позволяет определять одни предпочтения как «хорошие» или «высокие», а другие — как «плохие» и «низкие».
Сконса заинтересовал специфический тип любви к хоррору как сознательная «маргинализация», предпочтение «плохого» кино и «низкой» культуры.
Расцвет поклонников хоррора и фанатских журналов, объединявших любителей ужасов пришелся на 80-е. Сконс обнаруживает в демонстративном ужасопоклонничестве не просто предпочтение малобюджетных хорроров другому кино, но воинственное противопоставление «трешевых» фильмов всему остальному — и голливудским блокбастерам, и арт-кинематографу.
Отдельно важным в этом контексте оказалось контркино, интеллектуальный авангардный кинематограф, прежде всего ассоциируемый с Жаном-Люком Годаром. Его эстетические тактики обычно описываются как нацеленные на разрушение иллюзии кино и на политическую радикализацию зрителя.
Сконс смело утверждает: такие образцовые «контрфильмы» Годара, как «Всё в порядке» (1972), вряд ли могут радикализировать кого-то, кроме нескольких академических эстетов; зато работы вроде «План 9 из открытого космоса» (1959) Эдварда Вуда-мл. или «Зонтара: Тварь с Венеры» (1966) Ларри Бьюкэнэна — вполне могут.
Кино Годара, хоть и предназначалось автором для широкой аудитории, включающей рабочий класс, оказалось слишком сложным, так что «революционные фильмы» французского режиссера в итоге ходили смотреть высокообразованные зрители. Остальным же всё это попросту было непонятно.
Свой громкий тезис о радикальном потенциале микробюджетных хорроров Сконс иллюстрирует воинственностью фанатов того, что он называет «паракино» — фильмов, которые провоцируют субкультурное почитание и противопоставление себя легитимной культуре и традиционной эстетике. Стилистическая чрезмерность а порождает зрителей, которые с ее помощью бросают вызов и голливудскому жанровому мейнстриму, и годаровскому авангардизму, и классическому европейскому авторскому кино типа работ Ингмара Бергмана. Такая защита маргинального вкуса фанатами позволяет увидеть паракинематографические хорроры как оппозиционные по умолчанию — уже в силу одной их стилистики.
Трейлер фильма «План 9 из открытого космоса» (США, 1959)
Социологический подход к хоррор-киноведению продолжил Марк Дженкович в статье «Культовые фильмы, субкультурный капитал и производство культурных различий» (2002) в журнале Cultural Studies. Если для Сконса было важно, как фанаты паракино противопоставляют себя любителям высокой культуры, то Дженкович обращает внимание на то, как эти же фанаты выстраивают свою речь как доминирующую над «деградировавшими жертвами мейнстримной коммерческой культуры».
Вся конструкция «паракинематографа» противоречит собственным основаниям. С одной стороны, Сконс объявлял, что не будет сводить фильмы к их тексту, а будет рассматривать именно зрительское восприятие и вкус как социальный конструкт. С другой, он в конечном счете предполагает что микробюжетный хоррор может быть радикализирующим сам по себе, вне исторической конкретики. Сконс не видит, что вкус к паракинематографу — это такой же социальный конструкт, как и любовь к фильмам Бергмана и Годара.
Чуть ранее в статье «„Настоящий шокер“: аутентичность, жанр и борьба за различие» (2000) в Continuum Дженкович уже описал, как фанаты микробюджетных ужасов выстраивают иерархию уже среди поклонников жанра. Они провозглашают собственную аутентичность и презирают всех, кому нравятся трендовые хорроры типа «Крика» (1996).
Похожую аргументацию использует киновед Мэт Хиллс в статье «По ту сторону паракинематографа» (2007): он рассматривает слэшеры серии «Пятница, 13-е» и показывает, что они попали в проблемную зону между легитимной культурой и трешем. Для первой такое кино слишком кровавое, а для второго — недостаточно малобюджетное и независимое. В итоге фанаты «Пятницы, 13-е» оказались презираемы и обладателями высокого вкуса, и любителями паракинематографа.
Теперь наиболее воинствующие фанаты жанрового кино выработали свой канон треша, который основан на противопоставлении микробюджетных хорроров «коммерции» и «мейнстриму». За такими практиками, как подчеркивает каждый киновед, вдохновившийся социологией Бурдье, стоят не просто эстетические битвы, но дискриминация одних социальных групп другими на основании вкуса и культурных предпочтений.
Фрагмент из фильма «Пятница, 13-е. Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен» (США, 1989)
Национальный хоррор
Несмотря на то что хоррор-исследователи новой волны позиционировали свои статьи как киноведческие, их акцент на общественном контексте (прежде всего — контексте потребления) не понравился олдскульным киноведам, для которых отказ от подробного искусствоведческого анализа отдельных фильмов выглядит предательством дисциплины.
Промежуточный вариант между вниманием к самому фильму и изучением контекстов его производства и потребления предложил Адам Лоуэнстин. Его теория «аллегорического момента» всё еще остается в рамках привычного для киноведения, но при этом настаивает на подробной работе с национальной историей.
Свои важнейшие идеи Лоуэнстин изложил в книге «Шокирующая репрезентация: историческая травма, национальное кино и современный хоррор» (2005), в которой он критикует предшественников за нечувствительность к национальным и историческим контекстам существования жанра.
Первое же предложение введения звучит провокационно: «Что кинематографический хоррор может сказать нам об ужасах истории?»
Кажется, что Лоуэнстин выходит за рамки традиционного киноведения, объявляя подлинным объектом исследования историю, но дальнейший текст показывает, что мы всё же имеем дело с подробным анализом кино, а метод этого анализа представляет отдельный интерес.
Фрагмент из фильма «Подглядывающий» (Великобритания, 1960)
Лоуэнстин во многом опирается на тексты Вальтера Беньямина о методе исторического материализма — «Происхождение немецкой барочной драмы» (1928) и «Тезисы о философии истории» (1940). В них Беньямин уделяет особое внимание аллегории — буквальному изображению конкретного образа, воплощающего абстрактную идею. Например, человеческий труп в немецких трагедиях XVII века одновременно означает и сам труп, и абстрактную идею жестокости. Такой художественный прием, согласно Беньямину, способен соединить историю с настоящим — тело из конкретного исторического момента существует одновременно в прошлом (в момент смерти) и в настоящем (в момент, когда труп появляется перед зрителем и становится аллегорией).
Современный хоррор для Лоуэнстина — во многом порождение Второй мировой войны, последствия травмы, содержание которой различается в каждом национальном контексте, но часто воплощается в аллегорическом моменте — ее отображении в фильмах ужасов, работающих на грани морально допустимого или за его пределами.
Важнейшие исторические травмы, по Лоуэнстину, отражаются в фильмах: Вьетнамская война — в «Последнем доме слева» (1972), нацистская оккупация Франции — в «Глазах без лица» (1960), атомная бомбардировка Хиросимы — в «Женщине-демоне» (1964), «Блиц» (бомбардировка Лондона гитлеровской авиацией с сентября 1940-го по май 1941-го) — в «Подглядывающем» (1960).
Особенно интересна глава про Канаду — страну, в которой национальную травму идентифицировать сложнее, чем в других рассматриваемых в книге случаях.
Согласно Лоуэнстину, травма этой страны во второй половине XX века — невозможность вообразить канадскую нацию как суверенную и связанный с этим комплекс неполноценности, который заставляет постоянно сопоставлять любое проявление национальной культуры с американским аналогом.
Так, канадские критики видели главной задачей своей киноиндустрии создание собственной «новой волны», которая воплотила бы дух молодого канадского национализма, никак не завися от популярных американских жанров. Лоуэнстин разбирает фильмы «Судороги» (1975) и «Автокатастрофа» (1996) Дэвида Кроненберга и показывает, как обе работы оставляют критиков недовольными. В первом случае — как слишком жанровое кино, в котором лишь отчасти можно найти элементы «национального», во втором — как национальное арт-кино, в котором жанровая составляющая не доведена до нужной степени трансгрессии.
Реакция критиков на «Судороги», профинансированные государственной Канадской корпорацией развития кино, напоминала отдельные элементы сегодняшней российской медийной повестки: одна из самых ярких статей называлась «Вы должны знать, насколько плох этот фильм. В конце концов, вы его оплатили» и содержала фразу:
«Если единственный способ, чтобы в англоязычной Канаде была киноиндустрия, — это использовать государственные деньги на производство таких фильмов, то, возможно, в англоязычной Канаде не должно быть киноиндустрии».
Будучи историей о похожих одновременно на пенисы и фекалии паразитах, провоцирующих людей на секс и агрессию, «Судороги» были заклеймены как «садистская порнография».
При этом Кроненберг во многом за счет скандалов в кинопрессе обрел репутацию культового режиссера. В своих ранних фильмах «Пересадка» (1966), «Из канализации» (1967) и «Стерео» (1969) он апеллировал скорее к авангарду, чем к жанровому кино, но быстрой славы не получил. «Судороги» же, вызвав негативную реакцию критиков, затронули в Канаде вопросы государственной поддержки национального кинематографа и того, каким должно быть канадское кино в принципе. Защитники Кроненберга стали настаивать на том, что в его фильме есть сильная философская составляющая, выводящая автора за границы «примитивного хоррормейкера».
Сочетание жанрового кино с более ранними авангардистскими устремлениями создало режиссеру имидж умного и оригинального провокатора, способного буквализировать и воплотить в конкретных образах сложные идеи. Это умение стало считаться авторским почерком Кроненберга, а его дальнейшие фильмы уже большим количеством зрителей воспринимались как искусство.
Спустя двадцать один год «Автокатастрофа», история о людях, ищущих удовлетворение в занятиях сексом на местах автомобильных аварий, вызвала уважение критиков, но также и замечания, что в фильме слишком мало секса и разбитых машин. По Лоуэнстину, Кроненберг, снимая свою дилогию (режиссер однажды в полушутку сказал, что персонажи «Автокатастрофы» — это зараженные сексуальными паразитами люди из «Судорог»), выхватывает самую суть травматического момента попытки вообразить нацию: тело нации никогда не дано как нечто действительное, само желание ее вообразить — это и есть проблема, при которой болезнь служит источником нации, а не тем, что ей противостоит.
Фрагмент из фильма «Судороги» (Канада, 1975)
К национальному хоррору обращается и специалистка по современному филиппинскому кино Блисс Куа Лим. Ее теория «несмешивающегося времени» наряду с работами спекулятивных реалистов стала примером того, как жанровое кино способно помочь философии в целом.
Ключевая книга Блисс Куа Лим называется «Переводя время: Кино, фантастическое и темпоральная критика» (2009). В этой работе исследовательница критикует капиталистическое и европоцентричное представление о времени. Она обращает внимание на то, что в «здравом смысле» современного западного человека, время кажется чем-то, что имеет цель. Эта цель определяется якобы объективным и универсальным историческим процессом.
Прошлое и будущее в таком понимании определяются только через настоящее. Воплощением этой логики становятся часы: они определяют время как измеряемое и воплощаемое в пространстве (где происходит движение стрелок), дают его зримое определение.
Так, Блисс Куа Лим называет это визуально-онтологическим способом темпоральной критики. С его помощью Бергсон, а вслед за ним Жиль Делёз определяют время как «радикальную множественность длительностей», множество сосуществующих и непереводимых друг в друга темпоральностей. Они обеспечивают творческую эволюцию — такую, ход которой невозможно предсказать и которая не повторяется, а значит, не может быть описана через понятие прогресса.
Блисс Куа Лим дополняет бергсоновскую визуально-онтологическую критику историческо-постколониальным подходом Чакрабарти, который подчеркивал, что иллюзия единого настоящего — колониальная. Он утверждает, что жизненный опыт неевропейских народов не переводится в категории единого исторического времени, а потому клеймится колонизаторами как примитивный. В языке колонизаторов оказываются невозможны боги и духи, столь важные для тех, кого колонизируют.
При этом избежать главенства единого языка уже невозможно, поэтому посильная тактика — сохранять ощущение «скандала» в каждом переводе. Исследователь признает, что мистический опыт колонизируемых может быть передан в художественной литературе и кино лучше, чем в академических работах.
Время европейского капиталиста связано с логикой заводского производства. Оно соответствует последовательности действий, которая определяет рабочий цикл. Первое действие влечет за собой второе, которое не может начаться до того, как завершено предыдущее. В этом времени нет места богам и духам, оно регулируется механическим передвижением стрелки часов, работающей на тех, кто планирует рабочий процесс.
Несмешиваемое время неевропейских народов, о которых говорит Чакрабарти, не сводится к причинно-следственным связям материального мира. Живые люди здесь могут сосуществовать с духами, обитающими в других временах. Прошлое не исчезает, единожды предопределив настоящее, но всегда присутствует в нем и продолжает на него влиять. Логика сожительства с богами и духами не может быть адекватно переведена на язык капиталистических дельцов.
Фрагмент из фильма «Проклятие» (Япония, 2002)
Именно здесь для Блисс Куа Лим оказывается важным жанровый кинематограф. Она подчеркивает, что не противопоставляет хоррор, предполагающий фигуру монстра и допущение сверхъестественного, и фантастику, описанную в категориях секулярного рационального времени. Наиболее интересные фильмы работают на границе между этими жанрами.
Она (на этот раз вслед за Джеймисоном) считает жанровое кино проблемой для современного капитализма, потому что он требует постоянной оригинальности и новизны, тогда как жанр во многом основан на повторах. При этом кино само по себе вынуждено заниматься переводом различных темпоральностей — поэтому для Блисс Куа Лим важна категория национального кино, хотя понятие нации она тоже подвергает сомнению как продукт капитализма, пытающегося уничтожить многообразие реальных способов организации общества.
Национальный хоррор-фильм не способен перевести несмешивающееся время в гомогенное, но способен довести до сознания зрителя мистическую несводимость времен друг к другу. В частности, Блисс Куа Лим интересуют азиатские ужасы.
Множественная темпоральность в японском фильме «Проклятие» (2000) прорывается в сюжет: главы этого хоррора не сходятся в единой линии; с точки зрения капиталистического гомогенного времени некоторые персонажи не могли встречаться друг с другом. Но в «Проклятии» призраки отказываются подчиняться времени, они населяют одно место (дом, в котором произошло убийство отцом всей семьи), в котором пересекаются люди, в разное время пытающиеся раскрыть тайны проклятого здания. Например, в четвертой главе фильма бывший полицейский Тояма встречает возле этого дома собственную дочь Изуми. Загадка в том, что Изуми в этом эпизоде взрослая, хотя повзрослеет она лишь спустя много лет после смерти Тоямы. В едином календарном настоящем бывший полицейский не должен видеть свою подросшую дочь, но оба, обреченные на смерть, они встречаются в нелинейном времени проклятого места.
Блисс Куа Лим считает показательным, что в голливудском ремейке «Проклятия» (2004) сюжетные противоречия устранены и подчинены логике гомогенного времени.
Фрагмент из фильма «Проклятие» (США — Япония, 2004)
Призраки из фильмов, согласно Блисс Куа Лим, способны показать нам несмешивающееся время и помочь помыслить чужую темпоральность более этическим способом.
Как хоррор-киноведение ушло в отказ
В отличие от обобщающих теорий Робина Вуда и Ноэля Кэрролла, более социологически чувствительные исследования хоррора не стали академическим мейнстримом. Как ранняя статья Тюдора о множественных реализмах не пользуется успехом, потому что в ней автор отказался дать собственное определение (невозможность которого была главной идеей этого текста), так и его критика базовых вопросов хоррор-киноведения хоть и привлекла внимание, но не стала неоспоримой классикой.
Возможно, сама идея отказа от притязаний на всесилие исследователя в вопросах определения сущности жанра слишком противоречит базовым установкам большинства академиков, а потому не может быть принята всерьез.
Даже идеи Лоуэнстина, наиболее близкие к классическим киноведческим исследованиям, до сих пор получают в академии меньше внимания, чем того заслуживают.
Немногим больше повезло Сконсу, Дженковичу и Хиллсу — их тексты стали классикой в исследованиях культового кино, для которых вопросы зрительского восприятия значимы гораздо больше, чем отдельные формальные характеристики фильмов.
Зато теория Блисс Куа Лим, будучи укоренена в легитимной философии, пользуется большой популярностью, особенно среди ищущих свое призвание американских аспирантов-киноведов.
В любом случае интеллектуальный вклад социологически ориентированных киноведов помогает понять, почему хоррор всегда остается популярным: этот жанр наполняется разными смыслами от общества к обществу и даже от одной группы зрителей к другой. Люди находят всегда разное применение фильмам ужасов, в зависимости от актуальных проблем и целей.